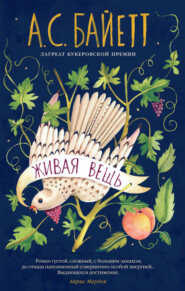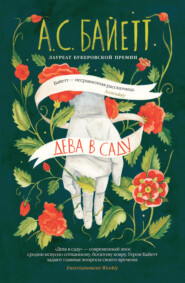По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Вавилонская башня
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Не мазохистка.
Они долго молчат. Потом Хью произносит:
– Прости. Я, пожалуй, полез не в свое дело. Не будем об этом.
– Нет, все правильно. Кажется, ты прав. Мне надо уходить. Я поломала себе жизнь. Вот только Лео…
– Возьми с собой.
– Как я его возьму? Малышу здесь хорошо – или, может, было бы хорошо, если бы хорошо было мне. У него все есть, его все любят, у него свои привычки… Я не самое… не главное.
– Нет?
– По-моему, нет. Как же я увезу мальчугана, который всего этого не понимает… в глухую ночь…
– Я же не предлагаю уйти навсегда, Фредерика. Мы просто увезем тебя туда, где ты можешь все обдумать. Потом и с Лео разберешься. Как с ним видеться, как быть с ним рядом. Как – ну, не знаю – устроить его получше. Ты же понимаешь: уехать с нами не значит поставить точку на всем.
– Да.
Снова долгое молчание.
– С такой, как ты сейчас, ему хорошо не будет.
И рана может пригодиться. Фредерика объявляет, что ляжет в свободной спальне, пусть ее спальня отдохнет без хозяйки. Спать она уходит рано, раздевается и ложится в постель с книгой. На что решиться, она понятия не имеет: ночное бегство кажется ей безрассудством, нелепостью, романтической выходкой, притом – страшно: ну как она оставит Лео? Но что же, стремиться к самоуничтожению? Чем она будет для Лео, если перестанет быть Фредерикой? Мамочкой. Ненавидит она это слово. Почему у англичан мать по-домашнему ласково именуют тем же словом, что и спеленутый труп?[60 - В английском языке слово mummy или Mommy (мамочка) созвучно слову mummy (мумия).] На миг ей вспоминается сестра Стефани: это относится и не относится и к ней, и мамочка, и мумия. Стефани тоже вышла замуж из сексуальных побуждений. Глядя на толстяка Дэниела, в это трудно поверить, но Фредерика знает, что это так. Выходцы из семьи интеллектуалов, изволите видеть, отчаянных либералов: у одной муж церковник, у другой владелец поместья в захолустье. А что причиной? Секс! Стефани, пожалуй, была счастлива. Полного счастья не бывает, но Стефани любила Дэниела, и Уилла любила, и Мэри, в этом сомнений нет. Стефани была в известном смысле предрасположена к самоуничтожению. Фредерике кажется, что она и за Найджела вышла, потому что Стефани вышла за Дэниела и погибла, и сейчас мертва, и останется мертвой. Стефани выломилась из кембриджского кружка с его непрестанными рассуждениями о тонкостях эстетических и нравственных категорий, она потянулась к счастью плотскому. Подобно леди Чаттерли, отправилась в лес на свою погибель, волоча за собой строки цитат из слепца Мильтона, Суинберна с его «бледным галилеянином»[61 - «Ты победил, о бледный галилеянин! / Мир поседел от твоего дыханья!» (А. Ч. Суинберн. «Гимн Прозерпине»).], Китса с его «строгой весталкой тишины»[62 - «О строгая весталка тишины, / Питомица медлительных времен…» (Дж. Китс. «Ода греческой вазе». Перев. Г. Кружкова).], из шекспировой Прозерпины[63 - История Прозерпины упоминается в монологе Утраты в пьесе У. Шекспира «Зимняя сказка».], – волоча их за собой и желая от них избавиться, желая потерять себя и обрести себя телесно, по-весеннему… Был у нас такой миф, мысленно продолжает Фредерика разговор с Хью, что тело – это истина. Леди Чаттерли ненавидела слова, для Найджела они не существуют, я без них не могу.
Я поселилась здесь, потому что смерть Стефани меня уничтожила – по крайней мере, на время, – и я смогла зажить в собственном теле.
И Лео жил – гостил – в моем теле, был его частью. Теперь уже не часть, теперь сам по себе.
Не совсем.
Кто ему важнее: «мамочка» здесь или «Фредерика» там – там, где Фредерика может быть Фредерикой?
Я всегда презирала безропотную покорность своей матери. Разве жизнь у нее была? Было то, чего я не хочу. Не хотела. И получила.
Лео… Лео можно похитить. Но здесь с ним считаются, здесь его любят. Пусть я здесь не живу настоящей жизнью, Лео живет настоящей.
Здесь ему лучше.
Если бы Лео встретил меня, Фредерику, где-то там, где я Фредерика, истина была бы хоть немного очевиднее. Он бы сердился, но мы бы поговорили.
Ты и правда так думаешь?
Нет-нет. Я думаю, что если уйду, то, может быть, никогда его больше не увижу. Я думаю, если я останусь, и ему и мне конец. Я думаю: как мелодраматично звучит. Думаю: пусть мелодрама, зато правда. Случаются в жизни и мелодрамы. То кто-то в кого-то топором метнет. То спецназовским приемом прихватит.
Ты хочешь себя разъярить, Фредерика. Или запугать – чтобы ярость и страх побудили тебя уйти. Уйти – вот чего тебе хочется, уйти, даже если Лео останется, но ты бы предпочла думать, что это не желание, а обязанность, тебе нужно, чтобы позволили.
Не выйдет. Лео твой сын. Или оставайся с ним, или уходи. Надо делать выбор.
В памяти раздается мелодраматически-издевательское: «Ну и что теперь?»
Она встает, одевается. В доме темно, голосов не слышно, двери закрыты. Она идет на преступление. Вещи не собирает: ничего ей из этой жизни не нужно. Спускаясь по лестнице, все еще спорит с собой: надо ли? Но теперь всем распоряжается тело: она бесшумно и ловко, как матерый грабитель, крадется через кухню и выходит из дому.
Ночь заволок густой туман. На конюшенном дворе в свете фонарей колышется серая пелена. Захватив в сбруйном чулане фонарик, Фредерика проворно, опасливо, крадучись, держась в тени конюшни, пробирается туда, откуда она еще недавно бежала что есть духу, в обнесенный стеной сад. Туман весь в движении: течет, клубится, вьется прядями, голые вишни и яблони то вдруг вычерчиваются на нем силуэтами, то вдруг озаряются лунным светом на фоне иссиня-черной небесной прогалины, мерцающей редкими звездами. Ветер не утихает, налетает внезапными порывами. Скрипят и стучат друг о друга ветки. Биение сердца отзывается даже в пятках. Она останавливается в самой темной части сада – у ограды, среди кустов крыжовника и шпалерных персиков и абрикосов. Ей кажется, что за ней кто-то следует: вроде бы глухие шаги; она замирает, прислушивается. Нервы на пределе. Вдруг выскочит кто-нибудь с топором, мечом, пистолетом. Или тот, кто умеет вышибить дух всего лишь быстрым и точным ударом ребра ладони… Луна – она то прячется, то появляется – почти полная. Небо бурлит. Полосы, клочья, клубы тумана мечутся, мечутся, свиваются.
Из кустов доносится другой звук – какая-то возня, Фредерика прижимается спиной к стене, приседает. Может, барсук – в лесу они водятся – снова забрался в сад, человечьи владения между домом и дебрями? Тихий хруст, и все умолкает. Какой-нибудь зверь вышел на охоту…
Она добирается до двери в стене, поворачивает ключ, открывает. За стеной расстилается поле, просторное, темное, волглое. И тут у нее за спиной раздается топот бегущих ног, она в бешенстве оборачивается и направляет слепящий луч фонаря на преследователя. «Ну и что теперь?» – проносится в памяти. Но фонарь никакого лица не высвечивает, что-то шуршит, и поврежденную ногу ее, как змеиные кольца, обвивают крепкие ручонки, в самую рану утыкается чье-то личико.
– Лео, Лео, пусти, мне здесь больно. Пусти, мой хороший.
– Нет!
– Я никуда не денусь. Ну, иди ко мне.
В темноте они неловко обхватывают друг друга. Фредерика поднимает сына, он то там, то сям хватается за нее сухощавыми ручонками и цепкими, совсем как у обезьяны, ногами. Наконец он повисает у нее на шее, уткнувшись в ключицы, и с отчаянной решимостью прижимается к ней всем телом, так что не оторвать. На нем пижама. Ноги босые. Лицо влажно. Зубы стиснуты.
– Лео, Лео…
Говорить он не может. Так они и стоят, потом садятся. Малыш, сжавшись в комок, все не отпускает шею матери.
Пройдет много лет, и где-то на Рио-Негро индеец по имени Насарено принесет Фредерике снятую с дерева самку ленивца. Поросшая серой шерсткой зверушка еле-еле движется, на газоне перед отелем она вообще не может передвигаться. У нее три изогнутых когтя, кривые передние лапы едва шевелятся. Она смотрит круглыми, темными, отсутствующими глазками, в которых нет ни мысли, ни выражения. Фредерике кажется, что на шее у нее опухоль вроде зоба, но выясняется, что она ошиблась: шею зверушки обхватил детеныш и так крепко прижался, что его собственные очертания не различить, мать и детеныш слились в восьмерку, покрытую странной серой шерсткой, – предположительно голова словно вросла в предположительно ключицы. Фредерика смотрит на непонятного зверя и вдруг со всей отчетливостью вспоминает ту минуту у садовой стены, когда сын, вцепившись в нее, пытается втиснуться обратно в ее тело. И ей придет в голову то, что не приходит сейчас, у садовой стены: «Это самая страшная минута в моей жизни. Самая страшная».
Лео с трудом произносит:
– Я. Иду. С.
– Все в порядке. Я отнесу тебя в постель. Пошли домой.
– Нет. Я. Иду.
– Ты не понимаешь…
– Я устал, – говорит Лео. – Устал все время думать и думать, что делать. Устал. Я хочу с тобой. Ты не могла. Ты не можешь. Уйти без. Не можешь.
– Лео, не стискивай меня так. Ты как тот старик, который оседлал Синдбада и чуть не задушил.
– Поехали, – говорит Лео. – Поехали. Это он так сказал, старик.
И Фредерика без дальнейших размышлений снова пускается в путь: она торопливо, прихрамывая, идет через поле, прижимая к груди горячее тельце ребенка, который обвил ее руками и ногами. Она кое-как перебирается через перелаз – малыш ее не отпускает – и бредет лесом, стараясь держаться ближе к дороге, обсаженной можжевельником. Время от времени она робко спрашивает: «Ну как ты? Тебе удобно, родной?» – но он, тяжелый, хмурый, молчит и не шевелится: если бы не цепкая хватка, недолго подумать, что он уснул или умер. Она видит кряжистые стволы, мчащиеся над головой облака, крепкие ветви, в которых шумит ветер; она идет, идет, мучаясь от боли, а воображение рисует ей другую Фредерику, юную, – как она летит словно на крыльях навстречу радостной свободе. Ни одно мужское тело не запомнится ей так, как тельце этого цепкого, сердитого мальчугана, никакие плотские наслаждения, никакая боль не запомнится так, как прикосновение этих рук, запах этих волос, это судорожное подобие дыхания. Мы оба знаем, что я не хотела его брать, думает, ковыляя, Фредерика, и пусть это останется между нами. Она держит его так же крепко, как он хватается за нее, она слышит стук обоих сердец, дыхания их сливаются. И когда навстречу из-за деревьев, освещая ей путь дрожащим лучом фонаря, выходит Алан Мелвилл, ему на миг вспоминается лев на нелепой и прекрасной картине Стаббса: огромная кошка хищно раздирает холку белогривой добычи, на которую она взгромоздилась. Приходит мысль и о демонах, но потом он видит, что она прижимает к себе изнемогающего от усталости малыша. На лицах женщины и ребенка почти нечеловеческий оскал.
– Здравствуй, Лео, – торжественно произносит Алан. – Ты с нами?
Мальчик не в силах выговорить ни слова.
IV
…и около того времени, как завелись пышные празднества в Театре Языков, но не учредились еще обряды в капеллах Богородицы и Невинных Младенцев, госпожа Розария повадилась, ускользнув незаметно из Ла Тур Брюйара, совершать в одиночестве конные прогулки в лесу. Случись кому-нибудь спросить, откуда это увлечение, она не нашлась бы что ответить, потому и уезжала она тайком, дабы избежать подобных вопросов, – а может, и затем, чтобы не пришлось отвечать на них себе самой. Если бы кто-нибудь все же и пристал с расспросами, она бы сказала, что одинокие эти прогулки – ее прихоть, под стать прихотям и фантазиям тех, кто, раскрасневшись, облизываясь и не скупясь на жаркое дыхание, участвует в действах, что разыгрываются в Театре Языков. Но избежать расспросов она жаждала всей душой, ибо на страсть к уединению Кюльвер смотрел косо – по крайности, если замечал ее в других. Они много рассуждали о том, как согласить между собой непримиримые страсти Дамиана, Кюльвера и Розарии. Кюльвер был преисполнен надежды, что согласие будет достигнуто. Госпожа же Розария, напротив, гордилась, что не принадлежит ни одному мужчине. Было это в ту пору, когда замысел их еще расцветал, как вешний сад.
Они долго молчат. Потом Хью произносит:
– Прости. Я, пожалуй, полез не в свое дело. Не будем об этом.
– Нет, все правильно. Кажется, ты прав. Мне надо уходить. Я поломала себе жизнь. Вот только Лео…
– Возьми с собой.
– Как я его возьму? Малышу здесь хорошо – или, может, было бы хорошо, если бы хорошо было мне. У него все есть, его все любят, у него свои привычки… Я не самое… не главное.
– Нет?
– По-моему, нет. Как же я увезу мальчугана, который всего этого не понимает… в глухую ночь…
– Я же не предлагаю уйти навсегда, Фредерика. Мы просто увезем тебя туда, где ты можешь все обдумать. Потом и с Лео разберешься. Как с ним видеться, как быть с ним рядом. Как – ну, не знаю – устроить его получше. Ты же понимаешь: уехать с нами не значит поставить точку на всем.
– Да.
Снова долгое молчание.
– С такой, как ты сейчас, ему хорошо не будет.
И рана может пригодиться. Фредерика объявляет, что ляжет в свободной спальне, пусть ее спальня отдохнет без хозяйки. Спать она уходит рано, раздевается и ложится в постель с книгой. На что решиться, она понятия не имеет: ночное бегство кажется ей безрассудством, нелепостью, романтической выходкой, притом – страшно: ну как она оставит Лео? Но что же, стремиться к самоуничтожению? Чем она будет для Лео, если перестанет быть Фредерикой? Мамочкой. Ненавидит она это слово. Почему у англичан мать по-домашнему ласково именуют тем же словом, что и спеленутый труп?[60 - В английском языке слово mummy или Mommy (мамочка) созвучно слову mummy (мумия).] На миг ей вспоминается сестра Стефани: это относится и не относится и к ней, и мамочка, и мумия. Стефани тоже вышла замуж из сексуальных побуждений. Глядя на толстяка Дэниела, в это трудно поверить, но Фредерика знает, что это так. Выходцы из семьи интеллектуалов, изволите видеть, отчаянных либералов: у одной муж церковник, у другой владелец поместья в захолустье. А что причиной? Секс! Стефани, пожалуй, была счастлива. Полного счастья не бывает, но Стефани любила Дэниела, и Уилла любила, и Мэри, в этом сомнений нет. Стефани была в известном смысле предрасположена к самоуничтожению. Фредерике кажется, что она и за Найджела вышла, потому что Стефани вышла за Дэниела и погибла, и сейчас мертва, и останется мертвой. Стефани выломилась из кембриджского кружка с его непрестанными рассуждениями о тонкостях эстетических и нравственных категорий, она потянулась к счастью плотскому. Подобно леди Чаттерли, отправилась в лес на свою погибель, волоча за собой строки цитат из слепца Мильтона, Суинберна с его «бледным галилеянином»[61 - «Ты победил, о бледный галилеянин! / Мир поседел от твоего дыханья!» (А. Ч. Суинберн. «Гимн Прозерпине»).], Китса с его «строгой весталкой тишины»[62 - «О строгая весталка тишины, / Питомица медлительных времен…» (Дж. Китс. «Ода греческой вазе». Перев. Г. Кружкова).], из шекспировой Прозерпины[63 - История Прозерпины упоминается в монологе Утраты в пьесе У. Шекспира «Зимняя сказка».], – волоча их за собой и желая от них избавиться, желая потерять себя и обрести себя телесно, по-весеннему… Был у нас такой миф, мысленно продолжает Фредерика разговор с Хью, что тело – это истина. Леди Чаттерли ненавидела слова, для Найджела они не существуют, я без них не могу.
Я поселилась здесь, потому что смерть Стефани меня уничтожила – по крайней мере, на время, – и я смогла зажить в собственном теле.
И Лео жил – гостил – в моем теле, был его частью. Теперь уже не часть, теперь сам по себе.
Не совсем.
Кто ему важнее: «мамочка» здесь или «Фредерика» там – там, где Фредерика может быть Фредерикой?
Я всегда презирала безропотную покорность своей матери. Разве жизнь у нее была? Было то, чего я не хочу. Не хотела. И получила.
Лео… Лео можно похитить. Но здесь с ним считаются, здесь его любят. Пусть я здесь не живу настоящей жизнью, Лео живет настоящей.
Здесь ему лучше.
Если бы Лео встретил меня, Фредерику, где-то там, где я Фредерика, истина была бы хоть немного очевиднее. Он бы сердился, но мы бы поговорили.
Ты и правда так думаешь?
Нет-нет. Я думаю, что если уйду, то, может быть, никогда его больше не увижу. Я думаю, если я останусь, и ему и мне конец. Я думаю: как мелодраматично звучит. Думаю: пусть мелодрама, зато правда. Случаются в жизни и мелодрамы. То кто-то в кого-то топором метнет. То спецназовским приемом прихватит.
Ты хочешь себя разъярить, Фредерика. Или запугать – чтобы ярость и страх побудили тебя уйти. Уйти – вот чего тебе хочется, уйти, даже если Лео останется, но ты бы предпочла думать, что это не желание, а обязанность, тебе нужно, чтобы позволили.
Не выйдет. Лео твой сын. Или оставайся с ним, или уходи. Надо делать выбор.
В памяти раздается мелодраматически-издевательское: «Ну и что теперь?»
Она встает, одевается. В доме темно, голосов не слышно, двери закрыты. Она идет на преступление. Вещи не собирает: ничего ей из этой жизни не нужно. Спускаясь по лестнице, все еще спорит с собой: надо ли? Но теперь всем распоряжается тело: она бесшумно и ловко, как матерый грабитель, крадется через кухню и выходит из дому.
Ночь заволок густой туман. На конюшенном дворе в свете фонарей колышется серая пелена. Захватив в сбруйном чулане фонарик, Фредерика проворно, опасливо, крадучись, держась в тени конюшни, пробирается туда, откуда она еще недавно бежала что есть духу, в обнесенный стеной сад. Туман весь в движении: течет, клубится, вьется прядями, голые вишни и яблони то вдруг вычерчиваются на нем силуэтами, то вдруг озаряются лунным светом на фоне иссиня-черной небесной прогалины, мерцающей редкими звездами. Ветер не утихает, налетает внезапными порывами. Скрипят и стучат друг о друга ветки. Биение сердца отзывается даже в пятках. Она останавливается в самой темной части сада – у ограды, среди кустов крыжовника и шпалерных персиков и абрикосов. Ей кажется, что за ней кто-то следует: вроде бы глухие шаги; она замирает, прислушивается. Нервы на пределе. Вдруг выскочит кто-нибудь с топором, мечом, пистолетом. Или тот, кто умеет вышибить дух всего лишь быстрым и точным ударом ребра ладони… Луна – она то прячется, то появляется – почти полная. Небо бурлит. Полосы, клочья, клубы тумана мечутся, мечутся, свиваются.
Из кустов доносится другой звук – какая-то возня, Фредерика прижимается спиной к стене, приседает. Может, барсук – в лесу они водятся – снова забрался в сад, человечьи владения между домом и дебрями? Тихий хруст, и все умолкает. Какой-нибудь зверь вышел на охоту…
Она добирается до двери в стене, поворачивает ключ, открывает. За стеной расстилается поле, просторное, темное, волглое. И тут у нее за спиной раздается топот бегущих ног, она в бешенстве оборачивается и направляет слепящий луч фонаря на преследователя. «Ну и что теперь?» – проносится в памяти. Но фонарь никакого лица не высвечивает, что-то шуршит, и поврежденную ногу ее, как змеиные кольца, обвивают крепкие ручонки, в самую рану утыкается чье-то личико.
– Лео, Лео, пусти, мне здесь больно. Пусти, мой хороший.
– Нет!
– Я никуда не денусь. Ну, иди ко мне.
В темноте они неловко обхватывают друг друга. Фредерика поднимает сына, он то там, то сям хватается за нее сухощавыми ручонками и цепкими, совсем как у обезьяны, ногами. Наконец он повисает у нее на шее, уткнувшись в ключицы, и с отчаянной решимостью прижимается к ней всем телом, так что не оторвать. На нем пижама. Ноги босые. Лицо влажно. Зубы стиснуты.
– Лео, Лео…
Говорить он не может. Так они и стоят, потом садятся. Малыш, сжавшись в комок, все не отпускает шею матери.
Пройдет много лет, и где-то на Рио-Негро индеец по имени Насарено принесет Фредерике снятую с дерева самку ленивца. Поросшая серой шерсткой зверушка еле-еле движется, на газоне перед отелем она вообще не может передвигаться. У нее три изогнутых когтя, кривые передние лапы едва шевелятся. Она смотрит круглыми, темными, отсутствующими глазками, в которых нет ни мысли, ни выражения. Фредерике кажется, что на шее у нее опухоль вроде зоба, но выясняется, что она ошиблась: шею зверушки обхватил детеныш и так крепко прижался, что его собственные очертания не различить, мать и детеныш слились в восьмерку, покрытую странной серой шерсткой, – предположительно голова словно вросла в предположительно ключицы. Фредерика смотрит на непонятного зверя и вдруг со всей отчетливостью вспоминает ту минуту у садовой стены, когда сын, вцепившись в нее, пытается втиснуться обратно в ее тело. И ей придет в голову то, что не приходит сейчас, у садовой стены: «Это самая страшная минута в моей жизни. Самая страшная».
Лео с трудом произносит:
– Я. Иду. С.
– Все в порядке. Я отнесу тебя в постель. Пошли домой.
– Нет. Я. Иду.
– Ты не понимаешь…
– Я устал, – говорит Лео. – Устал все время думать и думать, что делать. Устал. Я хочу с тобой. Ты не могла. Ты не можешь. Уйти без. Не можешь.
– Лео, не стискивай меня так. Ты как тот старик, который оседлал Синдбада и чуть не задушил.
– Поехали, – говорит Лео. – Поехали. Это он так сказал, старик.
И Фредерика без дальнейших размышлений снова пускается в путь: она торопливо, прихрамывая, идет через поле, прижимая к груди горячее тельце ребенка, который обвил ее руками и ногами. Она кое-как перебирается через перелаз – малыш ее не отпускает – и бредет лесом, стараясь держаться ближе к дороге, обсаженной можжевельником. Время от времени она робко спрашивает: «Ну как ты? Тебе удобно, родной?» – но он, тяжелый, хмурый, молчит и не шевелится: если бы не цепкая хватка, недолго подумать, что он уснул или умер. Она видит кряжистые стволы, мчащиеся над головой облака, крепкие ветви, в которых шумит ветер; она идет, идет, мучаясь от боли, а воображение рисует ей другую Фредерику, юную, – как она летит словно на крыльях навстречу радостной свободе. Ни одно мужское тело не запомнится ей так, как тельце этого цепкого, сердитого мальчугана, никакие плотские наслаждения, никакая боль не запомнится так, как прикосновение этих рук, запах этих волос, это судорожное подобие дыхания. Мы оба знаем, что я не хотела его брать, думает, ковыляя, Фредерика, и пусть это останется между нами. Она держит его так же крепко, как он хватается за нее, она слышит стук обоих сердец, дыхания их сливаются. И когда навстречу из-за деревьев, освещая ей путь дрожащим лучом фонаря, выходит Алан Мелвилл, ему на миг вспоминается лев на нелепой и прекрасной картине Стаббса: огромная кошка хищно раздирает холку белогривой добычи, на которую она взгромоздилась. Приходит мысль и о демонах, но потом он видит, что она прижимает к себе изнемогающего от усталости малыша. На лицах женщины и ребенка почти нечеловеческий оскал.
– Здравствуй, Лео, – торжественно произносит Алан. – Ты с нами?
Мальчик не в силах выговорить ни слова.
IV
…и около того времени, как завелись пышные празднества в Театре Языков, но не учредились еще обряды в капеллах Богородицы и Невинных Младенцев, госпожа Розария повадилась, ускользнув незаметно из Ла Тур Брюйара, совершать в одиночестве конные прогулки в лесу. Случись кому-нибудь спросить, откуда это увлечение, она не нашлась бы что ответить, потому и уезжала она тайком, дабы избежать подобных вопросов, – а может, и затем, чтобы не пришлось отвечать на них себе самой. Если бы кто-нибудь все же и пристал с расспросами, она бы сказала, что одинокие эти прогулки – ее прихоть, под стать прихотям и фантазиям тех, кто, раскрасневшись, облизываясь и не скупясь на жаркое дыхание, участвует в действах, что разыгрываются в Театре Языков. Но избежать расспросов она жаждала всей душой, ибо на страсть к уединению Кюльвер смотрел косо – по крайности, если замечал ее в других. Они много рассуждали о том, как согласить между собой непримиримые страсти Дамиана, Кюльвера и Розарии. Кюльвер был преисполнен надежды, что согласие будет достигнуто. Госпожа же Розария, напротив, гордилась, что не принадлежит ни одному мужчине. Было это в ту пору, когда замысел их еще расцветал, как вешний сад.