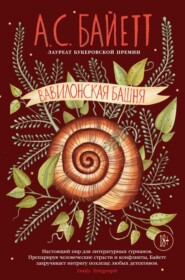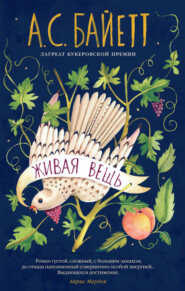По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Дева в саду
Автор
Серия
Год написания книги
1978
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
У Мальчика на голове корона из пыльных, рыжих, распутных роз. Он сидит, прислонясь к глиняной стене, расписанной бледными и пышными букетами. Лицо у него чисто и просто точенное, угластое, порочное, оценивающее. На нем тесная синяя куртка и штаны. Колени раздвинуты. Смятение пола: в паху глубокие складки и твердая выпуклость. Он может быть кем угодно, а вероятнее – всем сразу. Одну руку он свободно опустил между ног. Другой сжал короткую, ладную трубку и странным движением указывает себе в грудь. Никто из приходивших к Александру не замечал этих вполне очевидных вещей, не советовал убрать картину, как другим советовали спрятать подальше обнаженную Гогена или шлюху Лотрека. Может быть, потому, что Мальчик по смежности примыкал к группке Комедиантов, пестрых существ меж землей и небом, причастных тому и другому, переменчивых, бесплотных.
Александр знал, что он такое – этот Мальчик. И знал, что такое он сам, являющий Данаиду огненным девчонкам, но зрящий Мальчика как тайный знак. Мальчик не был ему желанен. То, что испытывал к нему Александр, ближе всего лежало к жгучей, нестерпимой зависти.
11. Действующие лица и оформители
Бесшумно – лоскутками и лентами, пестро? – бусами, перьями, блестками пьеса оккупировала дом викария Элленби.
В прошлом году блесфордские дамы пти-пуаном[101 - Вышивка очень мелкими, плотными, косыми стежками.] вышивали подушечки для преклонения колен, украсившие скамьи в церкви Святого Варфоломея. Кремовые, охряные лилии и рыбы на неброском фоне цвета хаки. Чтобы не видно было грязи.
Десять лет назад они собирали одежду для эвакуированных, карманные книги для солдат, вязаные шерстяные квадратики, что пойдут на одеяла для пострадавших от авианалетов.
В этом году они сооружали фижмы.
В Лондоне тем временем тысячи мелких жемчужин и хрустальных бусинок крепили на плотный белый атлас, и мерцание окутывало коронационное платье Елизаветы II. Цветными шелками вышивали по подолу эмблемы Содружества и Империи, розы и чертополохи, кленовые листья и желуди.
Фелисити Уэллс, заведуя костюмно-бутафорскими приготовлениями в Блесфорде, ощущала себя на пересечении бесконечных нитей старой и современной культуры, которые связывались по-новому, сплетались в новую ткань. В передней викария и на церковных ступенях стояли корзины для всего красивого и редкого, что могли уделить для постановки местные жители. На вышивальных курсах крохотные жемчужинки из пластика сажали расходящимися лучами на черный бархатный плащ сэра Уолтера Рэли. Серебряными лунами, золотыми птицами, алыми и белыми розами расшивали длинные платья, шлейфы, пышные расходящиеся мантии в пол. Скручивали ленточки в пионы и колоски для украшения вышитых подвязок.
– Мы все стосковались по ярким цветам! – воскликнула мисс Уэллс, высыпая на ковер содержимое сумки; новенькие катушки с вышивальной нитью, блестя, посверкивая, постукивая, раскатились россыпью тонов и оттенков. – Упоение! Признаюсь, Стефани: я всегда хотела целый ящик в комоде набить катушками, но до сих пор не было повода.
С самого начала Стефани решила держаться от пьесы как можно дальше. Ей с лихвой хватало Фредерикиных перипетий. К тому же именно оттого, что это была пьеса Александра, ей не хотелось выставляться, напоминать о себе (то ли скрытность, то ли род апатии). И если по вечерам в комнатке мисс Уэллс она сплетала позумент из золотых шнуров или на велосипеде катила через пустошь сообщить, что нужен китовый ус для фижм или линобатист для брыжей, то потому лишь, что не могла отказать Фелисити.
Как-то само собой повелось, что Дэниел свободные вечера проводил с ними. Женщины шили, а он, неспособный сидеть без дела, заваривал чай и мыл посуду.
С Дэниелом меж тем творилось неладное. Он оказался прав: Стефани, пару раз попробовав посидеть с Малькольмом, теперь приходила уже каждую неделю, чередуя субботу с воскресеньем. Мать, миссис Хэйдок, рыдала в комнате у Дэниела: от облегчения, от страха, что это закончится, от чувства вины перед Стефани и Малькольмом, которые нашли, похоже, способ переживать вместе эти невидимые для других часы.
– Это чудо, – твердила миссис Хэйдок. – Когда с ним мисс Поттер, в доме такая чистота. Просто стыд берет, как вспомню, что у нас-то с ним творится. Он ведь все крушит: как ни зайди, осколки, мука, грязь, а иногда и похуже. Конечно, мисс Поттер тоже убирать приходится: то он у нее чашки побьет, то бутылки от молока… Но у них всегда так тихо и опрятно, мистер Ортон… В дом приходишь, как в дом, нет этого шума вечного, не нужно сразу все по новой отмывать. И правда совестно: у мисс Поттер все так ладится, она так умеет себя поставить, а я…
– Вы его мать, – отвечал Дэниел. – Он вас знает, поэтому ведет себя по-другому. Мисс Поттер-то приходит раз в неделю. Но она, конечно, сокровище, и я очень рад, что у вас с ней ладится.
Несколько раз он заходил посмотреть, как Стефани управляется с Малькольмом. Это, собственно говоря, было даже его обязанностью. Обычно она и мальчик сидели, погруженные каждый в свою отдельную тишину. Стефани – в кресле, сложив руки на коленях, Малькольм, как всегда, когда не был судорожно активен, – в углу, на полу, ритмично и поочередно ударяя головой в сходящиеся стены. Тишина была такая, что Дэниел вдруг оробел и не осмелился ее нарушить. Однажды бодрым пасторским голосом он спросил Стефани, как ей удается удерживать мальчика в спокойном состоянии. Она ответила: нужно совсем-совсем замереть и, как взгляд, отвести внимание в сторону. Мальчик за тобой повторит, и вы, отрешившись, спокойно высидите положенное время. Наверно, нужно как-то с ним общаться, занимать его, но она этого не умеет, не знает, как приступиться. По крайней мере, так он не наносит вреда.
– Да, вреда никакого, – подтвердил Дэниел.
Глядя на нее с мальчиком, сидя по вечерам в комнатке мисс Уэллс, Дэниел пришел к мысли, что вольно или невольно Стефани обращается с ним как с Малькольмом: отрешается, замыкает внимание, замыкает его в молчании. Вот она здесь, но ни единое его слово к ней не проникнет. Глухую и гладкую преграду возводит она, что-то вроде зеркального стекла. Не знаю, говорил он себе, зачем я вообще сюда хожу.
Но он, разумеется, знал. Он был ею одержим и плохо подготовлен к столь нерациональному состоянию души. Уже долгие годы он не видел себя иначе как орудием к достижению цели. Теперь же он думал о ней непрестанно, а если неистовым усилием изгонял ее образ из своей церкви или своей спальни, то становился непереносимо чуток к движениям собственной души. Он пытался увидеть себя ее глазами и не мог. Одна за другой таяли незыблемые правды. Пересматривая свою жизнь, Дэниел задумывался: вполне ли он нормален, раз до сей поры не испытывал ничего подобного. «Нечистые мысли» прежде не мучили его. Онанизм давал облегчение, и Дэниел с редкой для его поколения мудростью считал себя вправе: это было быстрое и практичное удовлетворение биологических нужд. До Стефани его одинокие утоления почти никогда не сопровождались ничем зрительным. Теперь он порой слышал жалобный отзвук собственного голоса, обычно твердого, – просящего ее о какой-то милости. От этого отвращалась душа.
А потом ему стало трудно с Богом. Он никогда не имел и не желал личной связи с Ним. Молясь, никогда не говорил с Ним собственными словами. Церковные слова, как церковные камни, были всегда к его услугам. Молитва была способ знать, что есть нечто несметно больше и сильнее его, чувствовать, как бьют и стремят силы за пленкой его восприятия.
Его Христос знал, что за сила поддерживает в воздухе воробья, и прощал беспечность полевым лилиям[102 - Ср. Евангелие от Матфея, 6: 26 и далее, Евангелие от Луки, 12: 24 и далее.]. Этот Христос проповедовал сокрушительный здравый смысл, говорил прямо, не спускал ханжам и суесловам, острыми речениями вскрывал машинерию души и божественной справедливости. Этого Христа он любил, но никогда Ему не молился, ибо, не зная наверняка, чувствовал все же, что Он мертв.
Но его личные чувства ничего не значили рядом с незыблемой силой и цельностью, что он ощущал в Боге. А теперь меж ним и Богом встала она, и Бог сделался труден, и вернулось детское чувство удавьего, обездвиживающего жира.
Он готов был избить ее. Сломать.
Он приходил, потому что в одной с ним комнате она хотя бы уменьшалась до человеческих размеров, вмещалась в это вот примелькавшееся кресло. То была, конечно, не единственная причина. Раз не миновать ему вожделеть к ней во плоти, пусть плоть будет рядом: не в его правилах спасаться бегством. И вот он сидел с ней рядом в своих черных жарких брюках и мучился.
Мисс Уэллс находила собственное удовольствие в обществе этих двоих. Она их и баловала, и поучала, и все глядела своим темным, печальным, размытым взглядом. Комната была ее, и помощником режиссера, если можно так выразиться, выступала она. Это устраивало всех троих.
Однажды Стефани вошла и увидела, что в последнем свете, проникшем в мансардное окно, ее подруга стоит на одной ноге на вершине кособокой лестницы, составленной из словаря, пуфа, журнального столика, кровати и стола повыше. На ней была неохватная юбка с подъюбницей из блестящей синевато-зеленой занавесочной ткани. Фелисити захватила подола сколько смогла (крохотные кулачки, толстые комки материи) и приподняла на вытянутых руках. Ее голову украшали округлый тюдоровский чепец с жемчугом по канту и вуаль грубой кисеи, призванная прикрывать волосы, но сейчас несколько перекошенная.
Мисс Уэллс предстояло сыграть даму в толпе прочих верных – сперва в сцене коронации Елизаветы, потом в сцене скорби по ней. Она улыбнулась Стефани со своего возвышения:
– Вот проверяю: смогу ли ступать изящно при полном параде…
За спиной у Стефани темно навис Дэниел. Мисс Уэллс взмахнула ручками, качнулась и рухнула на кровать. Девчоночьи смеясь, барахтаясь в волнах материи, наугад нащупывала слетевший шиньон. Дэниел громыхал хохотом.
– Вот негодник! Как напугал… Надеюсь, в меня нигде булавки не воткнулись. Знала я, что с этими фижмами на лестнице будет беда. Отдельно учиться придется. Стефани, детка, дай руку.
Стефани потянула, и довольная мисс Уэллс пряменько села среди моря юбок, усмиряя на голове проволоку, кисею, волосы собственные и накладные. Нагнулась к проволочному каркасу, прищелкнула языком с пародией на досаду:
– Коварное сооружение – фижмы!
Стефани с грустью смотрела на нее. Маленькая, плоскогрудая, запыхавшаяся… И эта истончавшая кожица в глубоком вырезе, нежнейший, чуть складчатый шифон – вот-вот пойдет морщинами. Дэниел, большой и медвежий, схватил Фелисити и легонько поставил на ноги. Оба они смеялись. Стефани подобрала ее длинный подол.
Комнатка у мисс Уэллс была крохотная, вся прихорошённая – эфемерное жилье, птичья ветка. Книжные шкафы викторианские, черные, с фрезерованным готическим кантом в виде бусин. Должно быть, такая примерно готика и расшатала столь основательно состояние молодого Теннисона[103 - Альфред Теннисон потерял значительную часть семейного состояния, вложив деньги в мебельное предприятие друга.]. На полках и выступах шкафов приютилось пестрое сборище вещиц.
Подсвечники резного стекла, чайная баночка, расписанная розами старинного пышного сорта «глуар дэ дижон», игольная подушечка японского шелка, медный раструб индийской вазы с двумя павлиньими перьями, три сухарницы (круглобокая стеклянная, фарфоровая в цветочек с плетеной ручкой, деревянная вроде бочонка с медными шишечками), шкатулка для рукоделья флорентийской кожи, ножницы-цапельки (концы – клюв, эмалевые кольца – шагающие ноги), миниатюрная бело-синяя чашечка дорогой марки «Споуд», шесть чашек попроще, из «Вулвортс», сахаристо-розовых, с серым отливом, горстка крестильных ложек с фигурками апостолов на ручке, полбуханки хлеба, полбаночки лимонного крема[104 - Заварной крем из желтков, сахара, лимонного сока, цедры и сливочного масла.], стопка счетов, придавленная гипсовым слепком чьей-то руки, распятие черного дерева с серебром, вязаный берет, пакетик с фильдеперсовыми чулками, пузырек чернил, красные карандаши в банке из-под джема, вербочка и пасхальный крестик из Святой земли…
Все эти вещи Стефани выучила наизусть. У нее была неприхотливая, всеядная, поместительная память. В детстве она даже Фредерику побивала в игре, когда на подносе раскладывают предметы, накрывают чайным полотенцем, на секунду показывают тебе и снова прячут. И всегда она запоминала не только ложки, ножницы, будильники, шнурки, маргаритки и стеклянных зверьков, но даже и узор на подносе. Перед сном трудно бывало вычистить ненужное, накопившееся за день, – все то, что забивало ей ток мыслей, пестрыми призраками мреяло под веками. Иногда, чтобы уснуть, приходилось вызывать воспоминания одно за другим и стирать, превращая на краткий срок мысленный горизонт в tabula rasa. Но даже и тогда наутро бесконечной лентой плыли разрозненные образы, и каждый требовал быть вспомненным до последней точки.
Пока она не начала преподавать, то думала, что в этом нет ничего необычного, что всех осаждают рои полезных, но здесь и сейчас не применимых сведений и образов. В те дни обучение равнялось тренировке памяти, и непамятливым ученикам приходилось нелегко. Позже, когда мыслители, историки и обыватели решили обойтись без утомительной зубрежки, без понятия о преемственности, временной, языковой или эстетической, когда искусство и политика сосредоточились на современности и будущности, такие навыки, как у Стефани, уже не ценились, они высмеивались и даже порицались. Подобно портняжной моде, существует мода и на повадки мышления. Хранилища памяти вышли из моды вскоре после событий, описанных в этой книге и более или менее совпавших с коронацией Елизаветы II. Так театры памяти умерли вместе с Ренессансом. С исчезновением хранилищ памяти ушли произведения искусства, сами бывшие такими хранилищами, ушли традиции и индивидуальный талант, Библия, Пантеон, осознание, что на других языках люди думают по-другому. В антикварном гипермаркете или в блошиных рядах на подносах черного и светлого лака, медных и с инкрустацией вы, вероятно, видели горки намытых временем вещиц вроде тех, что наполняли комнатку Фелисити Уэллс. Но вы не смогли бы увидеть их так, запомнить их в согласии или хаосе так, как Стефани в 1953 году.
Обитель мисс Уэллс всегда была украшена тканями. На столе кружевная скатерть, с кровати свесилось камчатное покрывало, на лампы для таинственного уюта наброшены куски золотисто-красного шелка, обшитые по краям золотыми бусинами-грузиками. Сейчас же комнатка была устлана, выстлана, набита: ткани лежали грудами и отрезами, недошитые костюмы глядели ярко и блестко.
Стефани все это видела двояко: с прозорливой ясностью и пристальной дотошностью. Она умела различить замысел и не упустить мелочей воплощения. Ей ясен был масштаб великолепий, манивших того, кто гарнитур в стиле Людовика XVI втискивал в лилипутскую гостиную, где на стенах декоративная штукатурка как крем на торте. Ясен и современный лаконизм, ради которого, калеча исходные линии, на добротные фасады викторианских кухонь лепили хлипкую фанеру, а солидные латунные и фарфоровые ручки меняли на «геометричную» пластиковую мелочь «ярких и чистых цветов». Конечно, Стефани прозревала упоительную, мерцающую тайну и россыпи дивных вещиц, мечтавшиеся Фелисити. Прозревала и глубже: страстное желание воплотить здесь и сейчас цельность, жизнелюбие, чуткость к материалу, навек утраченные вместе с Золотым Веком. Видела, как журнальное фото настоятеля Вестминстерского собора в мантии с коронации Карла II, вынутой из-под спуда по случаю коронации Елизаветы II, и бутафорская мантия на вешалке-штанге, и колоратка-«ошейник» Дэниела рождают у Фелисити счастливое чувство совпадения и даже слияния великого прошлого и деятельного настоящего.
Видела, но разделить не могла. Потому что видела и другое: яхонты на бутафорской мантии – из цветных бутылочных крышечек, а Дэниел одинаково равнодушен к церемониям классическим, мистическим или одобренным Высокой Церковью[105 - Направление англиканства, близкое к католицизму.]. Она видела трещинки на чашках и дырочки на чулках. Не ее дело было создавать из них новое целое. Она просто смотрела.
Дэниел отнес чайник к печке на лестничной площадке и вскипятил воду. Вернулся и, преклонив колена перед Стефани, бережно поставил чайник в камин. Мисс Уэллс, царственно восседавшая теперь в своих псевдошелковых робах, рассказывала Стефани о символике цвета в одежде елизаветинской поры. Тогда каждая вещь имела собственное значение, цвета можно было читать, как книгу. Желтый означал радость, но лимонный – ревность. Белый – смерть. Молочный – невинность. Черный значил траур, оранжевый – досаду, телесный – сладострастие. Красный был бунт, золотой – алчность, соломенный – изобилие. Зеленый – надежда, но морская волна – переменчивость. Фиолетовый – религия, вердигри[106 - Серый с зеленым оттенком.] – отречение. Что до собственного платья мисс Уэллс, то оно, увы, намекало на непостоянство и уже успело проявить свою неблагонадежность.
Дэниел скептически отнесся ко всем этим таинствам.
– Как, – спросил он, – обычный человек отличал белый от молочного или тем паче соломенный от желтого, лимонного и золотого?
– И почему тогда Карлейль, – вставила Стефани, – говорил о неподкупности морской волны?[107 - Томас Карлейль (1795–1881) – британский писатель, публицист и историк; писал, что Максимилиан Робеспьер (1758–1794) был неподкупен, как морская вода – зелена.]
– То были другие времена. Ценились простые цвета, без тонов и оттенков. Желтый, синий, алый, зеленый. Смешанные цвета почти всегда связывали с непостоянством и пороком. Мир поэтому был тогда ярче. Карлейль романтик, и море для него – сила природы. А елизаветинцы отводили природе второе место. На первом стоял человек с его правдой. Простой цвет был для них слишком труден.
– Поразительно: такая точность и тонкость, – восхитилась Стефани.
– Заумно как-то, – отвечал Дэниел.
Мисс Уэллс засмеялась, шаловливо глядя на него:
– А знаете, почему публичные женщины носили зеленое? Причина довольно забавная.
Забавная причина оказалась в том, что, если женщину валили на траву, на зеленом не видно было пятен. А еще зеленый – цвет женихов. Цвет повадливой, сладостной весны. Она легонько вздохнула, перевела взгляд с Дэниела на Стефани… И такие очаровательные слова нашел язык для зеленого: муравный, бисквитный, выдровый, цвет гусиного помета. В те дни даже крой платья был полон смысла. На заре Тюдоровской эпохи мужчины и женщины охотно отдавали дань полу. Могучие плечи и торсы. Пышные бедра для благодатных родов, щедро открытая грудь: смотри, оценивай. Но со временем возобладал гротеск. Появились необъятные дублеты с подбитыми брюшками и торчащими монструозными гульфиками. Фижмы и брыжи, за которыми не видно было человека и сам он видел с трудом. Одежда сделалась узилищем тела. А для женщины – еще и знаком принадлежности мужчине. Роскошью женщину обездвиживали, как стреноженную лошадь. Пол из очевидного сделался символическим. Символы подкрепляли проволокой и набивали конским волосом. И посреди всего – королева, старая, крашеная, подмазанная, с неназываемым сосудом под фижмами.