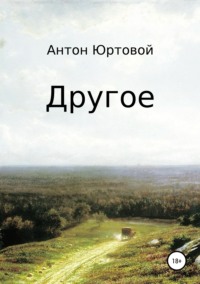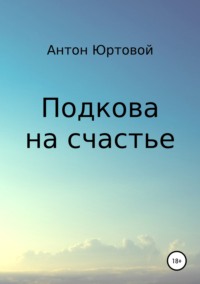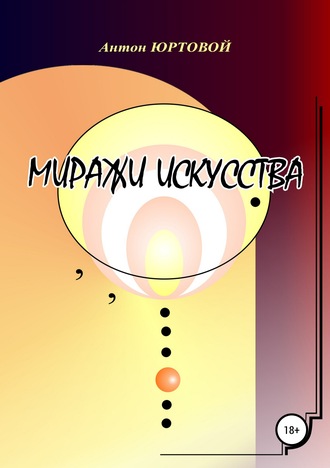
Миражи искусства
Современную столичную поэзию нам бы тогда не мешало знать лучше, быть осведомлённее в ней. Иными словами, следовало разобраться с этикой в отношении самих себя. Ведь розыгрыш уводил от серьёзной части нашей работы.
Безобиднее выглядели случаи с так называемым голым или обнажённым юмором, который заставлял делать выводы сам собой. Они, такие выводы, значили порой больше иных шумных обсуждений. Собственно, о таком повороте дела я и спешу поведать.
С Борисом Витриком, хирургом, я был знаком как сосед: мы в один день поселились в новом, только что выстроенном этажном жилом доме. Быстро подружились. Он был примерно одних лет со мной, как профессионал от медицины резко выделялся тем, что говорил о ней без уклончивостей, прямо и правдиво. Называл десятки случаев, когда операции, которые он делал, помнились ему не только из-за их сложности; там ещё присутствовали яркие элементы комического или нелепого, что привносилось не болезнями пациентов, а их курьезными поступками или же нескладными отношениями, в которых они находились с окружавшими другими людьми.
Такие случаи, как видно, по-настоящему забавляли Бориса, и юмор по этому поводу был у него широким, открытым и чистоплотным. Об отдельных эпизодах из своей практики он мог рассказывать много раз, неизменно варьируя деталировку и вызывая смех у слушателей.
В частности, таким, с его слов, являлся эпизод, когда пациенту пришлось делать операцию по удалению кочерги из нехорошего места его тела. Той самой кочерги, которою до наших дней подправляют огниво и посуду в русских печах по деревням и в пригородах. Взял вот кто-то и в гневе или в отместку за что-то вогнал это кухонное орудие не по назначению.
Смешное состояло не в самой операции, а в том, что пациент, живший где-то в предместье и не имевший возможности вызвать скорую, такси или хотя бы найти попутную, несколько километров до больницы добирался пешком, со злополучной кочергой в самом себе, пройдя по городу как бы усевшись на ней, в том числе и по наиболее людным улицам, когда по ним после работы толпами валил народ, глазевший на странного пострадавшего…
Своей профессией врача в целом Борис дорожил и, будучи в то время специалистом пока лишь начинающим, кроме отвлечённой моральной составляющей, очень высоко ставил в ней навыки, лично приобретённый опыт. По тому, с каким удовлетворением он говорил иногда мне о некоторых проведённых им операциях, я мог судить о его быстром и солидном профессиональном росте на избранной стезе и вместе с ним радоваться этому. Оптимист по натуре, Борис, как и многие в нашем поколении, страстно любил анекдоты. Знал их уйму и рассказывал прямо-таки мастерски. В шутку говорил, что анекдоты он собирает и записывает, есть их у него уже пять тысяч, но все он не помнит, а половину записей потерял.
Такой вот человек. Действительное у него было неотделимо от энтузиазма и от ироничного восприятия.
Редкая в среде врачей-практиков, эта его особенность вплотную приблизила его и к необъятному таинству литературного творчества. Он писал стихи и рассказы, но распознал в себе эту страсть уже с запозданием, будучи взрослым и семейным. Соответственно, результаты были здесь невелики. В литобъединении замечали, как это его нервирует, но на вид он держался твёрдо и смело, даже, как и всегда, приподнято или весело, надеялся, что его неудачам быть недолго. На каком-то этапе настроенность на успех постепенно превращалась у него в подобие самоуверенности. Со своими текстами Борис начал навязываться любому, кого знал, побуждая тех давать о сочинениях положительные или даже похвальные отзывы. А затем уже почти впрямую пытался отстоять полученные предварительные оценки на заседаниях «Океана».
Он, казалось, не обращал тогда внимания на то, что имело место в виде угодливости публики перед его серьёзным эскулаповым статусом. В эту публику, естественно, входили многие его пациенты. Кружковцам пришлось подправить его, и он, не осердясь, принял строгие, но справедливые замечания в свой адрес.
Отмечу при этом своеобразную манеру Борисова творчества: он любил эксперименты, но не писал ничего, что исходило бы от хорошо знакомой для него медицинской темы, в которой по неопытности авторам часто не удаётся избегать употребления сложной врачебной терминологии и где в отличие, скажем, от Чехова или Вересаева, многие даже известные профессиональные литераторы говорят только, собственно, о том, что есть лишь тема сама по себе, а – не о человеке. Трафаретам хирург предпочитал поиск сюжетных линий, пусть и не всегда приемлемых, но выбранных из расчёта, что, по крайней мере, тут можно чем-нибудь удивить, иногда совершенно простым. И стиль у него был простым: короткие фразы, вдумчивый, яркий синтаксис.
Коллеги по увлечению охотно работали с подобными текстами и, помнится, даже иногда восхищались ими и откровенно завидовали автору. Удачи, правда, не приходили к нему часто.
Кому он был обязан одобрением его рассказа о чаятах, никто в любительском кружке понятия не имел, но когда дошла очередь до обсуждения тонкостей этого несообразного этюда, Борис, кажется, готов был считать его уже чуть ли не шедевром. Для своих птенцов чайка устроила гнездо на мачте морского торгового судна, и там они взрослели и попадали во всякие передряги, двигаясь по маршрутам, которыми судно шло в течение некороткого срока, пока птенцы мужали. Мать же чаят моталась над морем, лишь изредка подлетая к деткам, чтобы покормить их пойманными в воде рыбками. Таким было содержание текста.
Любопытного здесь было много, особенно по части передряг – не только с чаятами, а и с их матерью и с членами судового экипажа. Однако сразу же возникли и сомнения. Гнездо на мачте? Не высоковато ли? Да и вправду ли? Слыхано ли о таком? И как птенцам разминаться, пробовать летать и возвращаться на место? А – где чаюн, или как там его, то есть – отец чаят? С ответами на вопросы у Бориса получалось неважно, он почти ничего не знал о гнездовании чаек, об их привычках, предпочтениях.
И сюжет, и рассказ в целом забраковали. Я был в числе поставивших суровую точку.
Обычно после заседаний мы с Борисом добирались домой вместе. На этот раз выходило иначе. Стушёванный автор не дожидался меня, а когда я вышел за ним на автобусную остановку и стал с ним рядом, чтобы войти в одну дверь, он отступил ко второму входу в салон. Ладно. Приехав, молча зашагали в направлении к дому. Моё присутствие рядом попутчик переносил, как я понимал, с огромным трудом.
– А не зайти ли?.. – попробовал я сбить с него зелёную досаду и указал на ближайший продуктовый магазин. Это определённо обозначало: зайти за водкой.
Возражения не последовало. Мы купили поллитровку, набралось ещё на хлеб и на традиционную селёдку. Продавщица взвесила закусь, а во что завернуть, не нашла. В те времена ведь о пакетах можно было только мечтать. И никакой обёртки вообще не предусматривалось, покупатель сам обязывался решать, как ему быть.
Мы осторожно и отстранённо осмотрели друг друга.
– Слушай, может, того…– сказал я обиженному автору и кивком показал на карман его пиджака, где топорщилась рукопись повествования о чаятах.
Тоскливая блажь моментально слетела с Бориса. Он обрёл веселоватое, нескованное настроение, и поскольку теперь над нами витало ещё предвкушение некоего торжества, даже сам поторопился смахнуть обиду с себя. Расплылся сначала в откисавшей ухмылке, а затем и в добрейшей улыбке, обозначавшей, что лучшего выхода из ситуации у селёдочного прилавка ему бы и желать не хотелось.
– Очко в твою пользу, – сказал он и бодро подал рукопись продавщице, а меня пробуравил взглядом, скрывавшим разудалое безразличие перед несвоей хитростью.
Ещё не приняв товар, мы, как придурки, расхохотались в оба горла, и не могли успокоиться даже когда расстались после распития меры.
А вскоре об этом «выходе из положения после порки» узнали все члены литобъединения. Смеялись до слёз, до колик. Одобрительно похлопывали по плечам и меня, и Бориса, уже и невозможно было разобрать – за что конкретно…
В литературе Борис наработал сущую мелочь. Публикации были в газете, отбиравшей из копилки литобъединения «Океан», да по несколько подборок стихов и коротких новелл печаталось в сереньких коллективных сборниках произведений таких же неуёмных энтузиастов, как и он. Не смущаясь их возрастами, наблюдатели даже из профессионального писательского сообщества именовали их в те поры и нередко даже сейчас именуют не иначе как молодыми писателями или поэтами. В какой-то степени это оправданные обозначения. Они указывают на то, что, проходя школу любительских объединений, такие влюблённые в литературу люди если ещё и не научились хорошо писать, то уже подошли к этому вплотную, дело лишь за тем, есть ли у кого из них желание двигаться в своём увлечении настойчивее и дальше.
Также при этом указывается и на то, как и насколько обогащаются их кругозор и знания литературы. Известно ведь немало литераторов, начинавших как любители и своими яркими творениями давших фору перед лавиной скучных и пассивных вещей, созданных писателями из числа выпускников литературных институтов или соответствующих специальных курсов.
Могу к этому добавить, что в литкружке энтузиасты находят ту особенно привлекающую их сферу эффективного живого общения, в какой «варятся» и воспитанники литинститутов. С некоторым, конечно, отличием от последней. Если для будущих дипломированных писателей оно, общение, подогревающее творческий процесс, часто заканчивается с выходом из стен альма-матер и становится крайне эпизодическим, то, наоборот, кружковцы могут пребывать в нём сколько угодно долго. Нет, разумеется, того заряда, который усваивают слушатели на обязательных лекциях нередко у живых классиков. Но нет и того холодного безразличия, каким официальные писательские организации потчуют, бывает, при обращении к ним не только любителей, но даже и известных мастеров слова из разных мест, куда их забрасывает судьба. Постоянное общение способствует росту уверенности любителей в своих творческих усилиях, выработке ориентиров, добротного литературного вкуса. Всё это ценится ими очень высоко.
Не став писателем, Борис Витрик ничего не потерял, но зато существенно обогатился в интересе и понимании литературных миров, их энергетики и эстетики. Будучи постоянно сильно загружен врачебными делами, он и много лет спустя находил время посещать занятия литкружка, чтобы принять участие в обсуждениях новинок, в слушании лекций и текущей информации о литературе.
По уровню подготовки в стихии художественной словесности от прежнего хирург отличался уже в разы. Он много и внимательно читал, выписывал наиболее прогрессивные литературные журналы, хаживал по библиотекам, собирал свою коллекцию книг. Совершенно легко он ориентировался теперь и в современной, и в классической литературе. Из компанейского потешника автор незадачливого рассказа о чаятах превращался в интересного и умного собеседника. Внимательно выслушивал новичков кружка, когда те обращались к нему. Насколько позволял его опыт, брался помогать им советами или грамотным разбором написанного.
Наверное, не в последнюю очередь познавание литературы, а, значит, и глубин внутреннего мира человека, содействовало и его выросту как специалиста. В хирургии он прошёл все наиболее тяжёлые низовые должностные ступени, закончил трудовую биографию руководителем, не прекращавшим сложнейших операций на больных. Коллеги и пациенты удостоили его искреннего уважения не только в связи с его врачебной работой. Им он стремился донести и то, чем увлекался. Выкраивал удобные минуты в ординаторской в короткие перерывы от своих бесконечных дел, на обходах коечников, на дежурствах. Наизусть читал что-нибудь коротенькое из классики – стихи, отрывки прозы.
Также выступал и со своим творчеством – как правило, из одобренного литобъединением и напечатанного, в чём видел важную гарантию для себя, так как считал, что и здесь, как и в диагностировании болезней и в их лечении, любые оправдания ошибок от него никто принимать не обязан.
II. ФЕЛЬЕТОНИСТ ЖЕНЯ НАУМОВ
В разгар затеянной в Советии шумной партийно-государственной кампании по искоренению в народе алкоголизма и пьянства Женя Наумов, талантливый провинциальный фельетонист и уже почти писатель, находился в той степени антидержавного озорства и ёрничества, какая другим людям могла по тому тусклому времени стоить если не гибельной тюремной отсидки, то уж местного административного гнева или высылки с территории постоянного проживания – непременно.
Всем на удивление, Жене, что бы он ни сотворил, задирая тогдашний политический строй, всё сходило с рук. Фельетонами, которые словно из рога изобилия сыпались из–под его пера, он часто буквально размазывал отдельные персоны и даже целые группы по их нечистоплотным бытовым, служебным и прочим пространствам, где они, имея грязные потребительские или похотливые задатки, уподобляясь червям, подтачивали моральные и материальные устои ещё казавшейся благополучной системы устройства общественной жизни.
В персоны Женя метил не в те, что уже получали по заслугам на каких-то собраниях, конференциях, пленумах, бюро, заседаниях официальных и общественных судов. Такой путь избирали штатные или «записные» фельетонисты, ходившие по уже протоптанным сюжетным стежкам. Нет, наш озорник умудрялся надлежащим образом выводить на чистую воду личности, до него никем не замеченные в чём-то нехорошем и недостойном. Вплотную он добирался до персоналий чуть ли не самого высшего местного руководящего эшелона, добирался даже до гэбистов, чего, кажется, не бывало и не могло быть никогда, а что до каких-нибудь скрытых козявок, действовавших тихо в самом низу и, как правило, индивидуально, то об этом даже говорить здесь нечего. Расписанные карикатурными красками, герои фельетонов ничего не могли противопоставить в оправдание себя перед жестокой волей режима, стремившегося показать, как решительно он готов очищаться ото всего не совпадающего с нормой, поровну распределённой на всех. Вспыхивали скандалы, один горячее другого, с опозориванием и с наказанием виновных. Те, которые были у власти, наказания получали, конечно, мягкие и «глухие», не выставлявшиеся в общество. Но и в этих случаях Женин авторитет рос, поднимался. Он уже представлял из себя некий феномен, заставлявший даже стопроцентно честных людей смущаться, а то и вздрагивать при одном упоминании об очередных героях, разоблачённых и поставленных «на вид» с подачи беспощадного фельетониста и сатирика.
Наверное, не лишне указать здесь на огромное значение жанра фельетона в тот период, когда в нём блистал Женя. Партийные руководители настоятельно рекомендовали журналистам пользоваться им как средством разоблачения негативных сторон жизни. Забывали, правда, относить к возможным героям жанра самих себя. Как раз Женя Наумов был из тех, кто постоянно напоминал им об этой их сановней забывчивости.
В медийной практике складывалось тогда несколько вариантов подачи фельетонного материала.
Кто-то рассказывал о негативе прямо, «в лоб» читающей публике, называя тут же конкретных, виновных в чём-то лиц, заранее получая разрешение у верхов на такую критику. Другие предпочитали вести повествование обезличенно и, значит, совершенно беззубо, упирая только на схемы негатива, взятые «вообще». Опусы такого вида также проходили согласования в инстанциях, чем как бы упреждались возможные нежелательные последствия для страны от чуждой и вредной для неё сторонней идеологии. В целом в такой продукции проявлялся тот вид гаденькой мимикрии, когда со стороны пишущий хотел выглядеть оперативным и бойким, оставаясь навеки подкаблучником и трусом, угождавшим верхам и собственному страху перед ними.
Из-за того, что разрешения на критику шли сверху, часто возникали ситуации, когда фельетонисты, имевшие дело с фактами жизни, откладывали перья в сторону. Им не о чём было писать, так как инстанции и отдельные сановники слишком неохотно давали добро на освещение негатива. Желавшие изменить в лучшую сторону весь мир, но только не себя, они болезненно воспринимали всякое такое копание в негативе, где открывались их собственные грехи. Как раз в этих случаях им приходилось идти на ограничения для пишущей братии; очевидные свидетельства упрятывались под сукно или уж прямиком в тайные архивы.
Голодом на разрешённую критику было порождено странное явление, когда пишущие создавали сюжеты сами. Шло это в целом от задач показушной «положительной» беллетристики, где за лучшее считалось нацепить на невзрачные события, биографии и им подобные нематериальные сферы благолепные партийные, трудовые, семейные, воинские и прочие одёжки. Многие сюжеты выдумывались или даже устраивались, то есть искусственно, целевым порядком разыгрывались. «Организовать событие» – эта формула становилась хорошо понятной, когда речь заходила об инициативах, которые следовало проявлять любому репортёру.
Такая традиция укреплялась с той поры, когда пресса лихо и безоглядно расписывала и возвышала надуманные трудовые достижения в виде, например, стахановского рекорда, а ещё раньше – подвиги в гражданской войне и при охране госграницы. Жанром для этого служил советский очерк, легко поддержанный впоследствии новыми генерациями журналистов и писателей и хорошо приспособленный для развёртывания показухи уже при другом строе, в наше, теперешнее время.
Прежние фельетонисты вовсю использовали очерковые схемы, втискивая в них обвинительно-критический сырьевой материал. Это, собственно, и становилось фельетоном. Пишущая братия новейшего образца отказалась от него совершенно, не видя смысла хотя бы изредка прочёсывать против шерсти звериные загривки собственников и власть имущих, предоставляющих авторам одновременно и работу, и крохотную мзду за неё.
Убыль критики, сопровождаемая такой их отстранённостью, критики даже в том жалком виде, какой могла терпеть её советская диктатура, очень сильно давала о себе знать и раньше. Только мало кто это осознавал. Проницательный Женя Наумов тоже предпочитал не усложнять свои размышления в этом аспекте, и в результате у него не нашлось ничего противопоставить очевидным переменам, когда они подступили. Дело кончилось крахом. Но это после. Пока же он являл собой тип игриво-благодушного неоклассического беллетриста, не представлявшего себя без своей роли.
Одинаково мастерски он владел жанром фельетона по всему спектру его разновидностей. Однако организованных сюжетов не предлагал, хотя выдумывать умел и любил. Судить об этом можно отчасти по подробностям, какие он старательно вкрапливал в тексты при их написании.
Какую, скажем, отрицательную роль играет лысина в характеристике негодяя? Да практически никакой. Лысых полно всюду. Но только одному Жене Наумову было дано заметить лысину в затылочной части до шеи или, кажется, ещё ниже. Обладал ею один партаппаратчик, нечистый на руку, жиголо и ужасный развратник. Женя расписал особенность его внешнего вида так просто и показательно, что ему не пришлось даже называть фамилию. По характерному признаку лысины его и без этого узнали и воздали ему тем презрением, на которое ориентировал читателей фельетонист.
В другой раз, обдумывая, как бы поярче рассказать о герое своей новой публикации, он обратил внимание на порези на щеке имярека, допущенные им при бритье. Казалось бы, что тут может извлечь беллетрист? В отличие от остальных, кто лицезрел физиономию с порезями каждый день и не придавал этим лёгким меткам никакого значения, Женя увидел их по-своему, как никогда не заживающие, и гениально определил, что сие означает уменьшенную от нормы толщину кожи у человека, что она продолжает становиться тоньше и тоньше, а, значит, этот человек живёт на предельной грани риска, и поскольку он в социальном плане хуже некуда, то и оступиться ему проще простого.
Публикация вскоре появилась, и, словно это было сигналом, героя фельетона, только-только уличённого на воровстве, сняли с работы и выгнали из любимой им политической партии, одиноко державшей абсолютную власть. Женя и в тот раз не посчитал нужным указывать фамилию. Эффект же был потрясающим. И обыватели, и инстанции готовы были Женю на руках носить.
Было с ним, разумеется, и по-другому, когда имело место удовлетворение от работы, но – без радости. То, что составляет участь каждого, кто занимается критикой. Оно, к сожалению, проявлялось и чаще, и уроннее для пишущего.
Его пробовали запугивать, бросали в кутузку и в психушку, донимали провокациями, несколько раз круто избивали, даже пробовали убить, однако всякий раз Женя выстаивал или виртуозно уклонялся от худшего для него. Эпизоды его преследований он не раз использовал для написания фельетонов, как из-под земли вытаскивая на свет божий исполнителей или ещё больше того: устроителей, авторов преследований.
На взлёте этой его благородной и неуёмной деятельности начинали поговаривать, что в нём есть нечто дьявольское.
Рассказывали, будто имел место случай, когда, придя в кабинет к одному важному должностному лицу, слывшему за образец высшей партийной порядочности и породности, он, не спросив разрешения, сел в кресло за стол напротив того лица, уставился на него и спокойно смотрел перед собой, а на вопросы визави, с чем он пришёл, что ему нужно и т. д. отвечал-говорил только одно: «Хороший вопрос!»
Служивый потихоньку свирепел и покрывался кровью. В какой-то момент столь странного, почти гипнотического изничтожения служивого Женя сказал ему: «А теперь – выкладывай!»
И тот будто бы раскрылся перед ним в нужной для фельетона тематике и вёл себя уже так угодливо и подобострастно, будто явился с повинной к следователю или к прокурору…
Те, кто знал Женю вблизи и постоянно, нисколько не верили в подобные байки. Внешне и поведением он не казался углублённым в себя. На нём не было никакой загадочной ауры. Это был человек простой и открытый, всегда в ровном и приятном расположении духа, одетый как все, готовый хоть при каком серьёзном разговоре вылепить шутку и куда угодно запустить её. Смеялся он взрывным добродушным смехом, но не пробовал ставить себя выше, когда смешили другие. В общем и целом, кроме как у расписанных им воров, шкурников, мздоимцев и прочей дряни, он ни у кого неприязни не вызывал.
Такого человека следовало не затаптывать и порочить, а по-настоящему ценить.
Власти не нашли ничего лучше как поступить именно таким образом. В своё время у Жени отобрали квартиру, теперь вернули её. Он был вольный репортёр – ему предложили стать штатным при неплохом издании и с приличным окладом, и он принял это предложение. Перед ним открывались двери чуть ли не в самые потайные обиталища власть имущих и знаменитостей.
Дошло до его приглашений на закрытые рауты, по размаху обжорства, пьянства, потехи и куража напоминавшие многонедельные разгульные дворянские ассамблеи петровского времени. Верхом заботы о человеке стало награждение Жени орденом. К печали задабривателей, это не привело к тому, на что они рассчитывали. Им было нужно расхолодить его репортёрский пыл, отвести его от передней, самой горячей линии жизни. В то время Женю такие условия не устраивали.
Но с объявлением перестройки и гласности, когда вспыхивала и шумно колыхалась площадная эйфория и даже ленивый вставал и куда-нибудь шёл, удерживаться в прежних рамках своей деятельности этот фельетонист не смог. Нет, он не уступил своим принципам, не продался, не обомлел перед посулами развращающего большего материального и финансового благополучия, не утерял профессионального мужества и мастерства. Но в качестве склонного к зубастой критике он чуток поник и заскучал. Говорил по этому поводу так, что, мол, какого лешего нужно ему бить погибающих, они погибнут и так, сами по себе, тех же, кто должен пройтись по их трупам, надо ещё увидеть и хорошенько раскусить. Пока тянулась эта вялая полоса, Женя работал почти нехотя. Но зато всё больше ёрничал, что, к удивлению многих, также добавляло ему популярности
Чего стоил хотя бы эпизод, с его слов описанный позже известным заезжим репортёром. Суть была в следующем.
Женя проходил мимо здания, где должен был открыться ответственный региональный партийный форум. Ввиду ясной и тёплой погоды съехавшиеся бонзы, ожидая открытия мероприятия и от скуки перебрасываясь сальными анекдотами, торчали при входных ступенях у фасада. Как бы сами собой, но, конечно, вовсе не случайно образовались два однородных круга. В одном стояли бонзы высшего ранга, в другом – серединного. Стояли локоть в локоть, оттопырив зады, животами вовнутрь, и так плотно, что больше никому в кругах места не находилось.
Женя мгновенно вычислил комедийную ситуацию. Он сделал вид, что тут ни до чего ему особого дела нет, и, приближаясь, профланировал, забирая то направление, которое пролегало между обоими кругами стоявших. Как человек, которого они отлично знали, поздоровался с ними. Ему вальяжно в несколько голосов ответили, а кто-то из «серединников», желая, видимо, показать некую свою демократичность и в данную минуту, скорее всего, не отдавая отчёта, что говорит, вдруг взял и так это пригласительно выпалил: «К нам, Перо!»