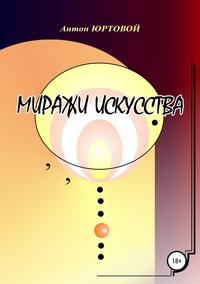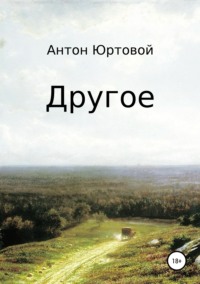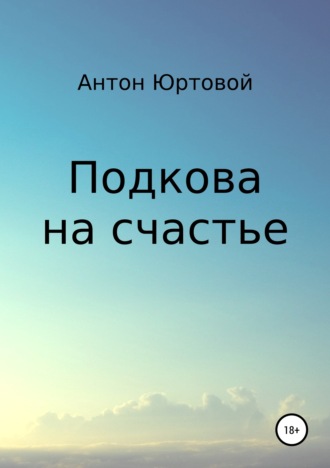
Подкова на счастье
У этого инструмента довольно скудное звучание, и рассчитывать на решение каких-то сложных задач с его использованием, конечно же, не приходилось. Пели под гармонь ещё с конца позапрошлого века, в революционные и военные годы, на гулаговских подиумах, немало поют всюду и до сих пор. А искусства, которое бы оставило след или имело тенденцию, изо всех стараний так и не вышло. Гармонь остаётся предметом чисто любительским, вещью для забавы и дешёвого тальянного удальства. Ею не так уж редко сопровождались пьяные гульбища. Прискорбно, что под стать инструменту выстроена и текстовая фактура. Стиль исполнения под гармонь на удивление дружно поддерживался всяческими властями, он поддерживается и властью нынешней. Здесь на поверку губительное недопонимание – ни народа, ни его искусства. Покровительство уравнено с агитационным заигрыванием – как своеобразным подкупом.
Вмешательство власти, часто не открытое, а как бы переложенное на плечи академизма, вызывает скепсис не потому, что при этом поддерживается не самое лучшее и более достойное; замысел сохранения традиции сам по себе благороден; однако он слишком накладывается на пожелание общей долговременной стабильности в государстве, при которой уконсервированной оказывается и вся общественная жизнь.
Искусство, если оно подлинное и тяготеет к высшим значениям свободы, этого не приемлет, из-за чего занимает нишу вне интересов политики и политической воли. В свою очередь, у любой власти в отношении к искусству неизбежна раздвоенность. Мало кому она понятна. С одной стороны, необходимо соблюдать гарантированную свободу творчества, с другой, – нельзя допустить, чтобы беспредельной свободой была опрокинута вся культура, а с нею и государственность.
Если тут не усвоены акценты, то выбирается решение, близкое к примитиву: культуру берут и подминают под стратегию власти.
В этом случае многое предстаёт необдуманным, неубедительным, случайным. Как относиться к беспределу пошлого или даже развратного на эстраде, на телевидении, на театральной сцене, в словесности, в живописи? Администраторы, заботясь о стабилизации, не находят ничего лучшего как прикрыться злобными установлениями рынка и попросту от беспредела отойти. В то же время стабилизацию, как и всякое достижение, они используют в целях собственного возвеличивания. Загребать здесь жар удобно, привлекая культуру в тех её видах, какие могут в наибольшей степени содействовать прославлению – и остойчивости государства, и собственно администрации. Потому-то власть и любит изображать себя покладистой и щедрой, одаривая любовью и деньгами в первую очередь тех, кто, не будучи гением, известен хотя бы чем или всего-навсего модничает. В условиях тотальной пиарности перед модным распахиваются все двери.
Как результат, культуру приносят в жертву славе, – последняя, разумеется, не для неё самой, и это давно уже стало общим местом. Если говорить о песне, то здесь разве не наблюдается то же самое?
То, что поётся в самодеятельности, легко выдать за народное, за то, что надо беречь, развивать и приумножать.
В этот стандарт, если он задан властью, горазды воткнуться очень многие. Тем самым создаётся видимость массовки. Лихое растягивание мехов гармони тут вовсе не самое низкопробное. Даже наоборот, оно не может не вызывать уважения, поскольку исходит от низов, зачастую сильно униженных. Не счесть уже низкопробного самого настоящего.
Именно поэтому нельзя ограничиваться только примерами, забывая о сути, о принципах, о задачах отбора.
Можно считать, что государственная власть никак не рассматривает ставший очевидным факт перерождения песенной народной традиции в искусство общности-конгломерата. Она здесь ничего не видит, не знает, что это такое. Русское безымянное песенное творчество прошлых веков – безусловная непреходящая ценность. Развивать её оказалось некуда. Навязчиво культивировать – также ни к чему, так как на смену пришло новое и будто бы не всегда и не совсем плохое. Как с предыдущим богатством быть? Да так же, как и с новым, от которого можно легко отстраниться. На аукцион ведь его не выставишь.
Вопрос не выдвигался бы так настойчиво, если бы нынешний век не преподнёс миру мощной головной боли с этническим элементом.
Национальная культурная автономия, а вслед за нею и национальная автономная государственность, призванные гармонизировать всю совокупную общественную жизнь этноформаций и этнообразований, оказались превосходными средствами для взращивания так называемого национального самосознания. Но эта изначально желанная штука на изумление всем нигде и ни в какую не хочет оставаться неким отвлечённым, парадным обозначением. Хотели, чтобы она росла, и она хочет того же. Стабильность под её воздействием буквально взламывается, трещит по швам. Штука норовит выделиться, обрести независимость. Понятно, её приходится укорачивать, удерживать в себе. Для этого придумано немало приёмов, в большинстве скрытных, завешенных демагогией. Для властей тут по сути и нет выбора, и они отчаянно противодействуют росту самосознания или, по меньшей мере, ничего туда не добавляют.
Вместе со всей культурой последствий этой странной игры не может не испытывать песенное творчество этносов или то, что иногда называется народной, национальной песней, фольклорной национальной песенной россыпью или как-нибудь ещё из того же выспреннего ряда. Что здесь любопытного? Песенное богатство подразумевают не остановленным во времени и в объёмах, какие отлиты по ходу истории, не потерявшим надежд выйти из национального кокона ввиду отсутствия у этноса полной государственной независимости и соответствующей этому истории, а – вполне исправным, живущим, набирающим силу и т. д., – будто бы совершенно просто оно в состоянии играть такую же точно роль как искусство народа-конгломерата. Организованный мираж подкрепляется шумной бодрецкой болтовнёй о сохранении народной традиции.
Для исполнения наследия образуются внушительные певческие батальоны; каждый из них, соревнуясь на уровне провинций, регионов, анклавов и даже стран и мира, натаскивает в пределы своей автономии всевозможные знаки признаний и славы. Общий замысел развития этим как бы пришпоривается.
Вместе с певцами выражают готовность отдать себя служению народному искусству композиторы. Возникают их объединения, расцветает методистика, на уровне государственности формируются научно-исследовательские центры, фонды поддержки, образовательные кафедры, правительственные комиссии, другими словами, – весь хорошо уже всем знакомый арсенал бесцельной, дорогостоящей, громоздкой чиновничьей опеки.
Если эту опеку снять, то, конечно, этническое останется; но, предоставленное самому себе и повинуясь позывам к лучшей собственной доле, оно будет вынуждено как можно теснее вплетаться в ткань современности. Обережённое своей энергией, то есть как явление отнародное и притом отнюдь не самого низшего качественного класса, оно в состоянии долго оставаться самим собой и даже быть востребованным современностью только при условии, что его качество станет динамично возрастать до пиковой черты. Спланировать этот путь не смогли бы никакой академизм, никакая власть. Стоит также учитывать скепсис, который неизбежен по отношению к искусству, если оно не на пиковой высоте. И, скорее всего, развитие в этом случае может иметь место лишь со знаком «минус».
Должно происходить примерно то же, что под влиянием действующей культуры народа-конгломерата не так уж редко испытывает оказавшийся в нём этнос.
Не развившись до уровня, где он мог бы конкурировать со «старшим братом», он обречён быть поглощённым, ассимилироваться. В каком виде возможна ассимиляция в пределах искусства и, в частности, искусства песенного, вам не скажет ни один мудрец.
Нам, современникам, при всех подобных отчаянных прогнозах, всё же нельзя не считаться с реальностью.
Централизованные государственные интересы требуют не упускать из поля зрения и сами этносы, сколько бы их ни оказывалось в границах отдельных стран, и всего, что выражается в их культурах. Но достаточным ли бывает осознание того раздела, который спонтанно образуется при взаимодействиях разных культур, по-разному соответствующих новым востребованиям?
Насколько можно считать значительным востребование этнического песенного искусства, фундамент которого, как правило, неотделим от оставшейся далеко в прошлом бытовой ритуальности, обрядовости?
Как тут ни разводить руками, а стыковаться с живым современным процессом ему нелегко и очень часто – просто не под силу. Уступать дорогу побуждают его как распухшая судорожная масса эстрадных звучаний, так и по-настоящему профессиональный песенный конгломератный репертуар. Достаточного эффекта при соревновании с ними или, как ещё говорят, – сосуществовании, получить не удаётся даже с переводом исполнения этнической песни в степень профессионального.
На примерах русского национального песенного творчества мы видели, как с его подчинением академизму оно почти сразу и почти совсем теряло себя как народная, самобытная традиция. И разве не о таком же убывании этнического говорит нам тот факт, что как предназначенное к исполнению порой исключительно в бытовой сфере, то есть – как непрофессиональное, оно уже и вообще утрачивает способность к выраженности вне профессиональной площадки? Судьба у него схожа с тем, что нам приходится наблюдать и в отношении эстрады, и песен общегосударственного культурного уровня. Здесь будут уже уместны сожаления по поводу судьбы песенного искусства, так сказать, в целом.
Не слышно на палубе песен… —
эти слова точно соответствовали непоправимой общей опустошённости и гордой мужской печали в нотном сочинении «После битвы», родственном по звучанию песне «Раскинулось море широко». Нам ещё памятна выраженность народного искусства, когда, не претендуя ни на что, песни в непрофессиональном исполнении, часто без инструментовки, звучали в поездах, на улицах, на росстанях, на сходках. С годами всё реже они слышались и уже совсем переставали слышаться на природе, где-нибудь у костра, на дачах, где-то по случаю. Последним пристанищем были жилые этажные дома, избы, квартиры, но теперь не слышно их уже и оттуда. Их заменила бурлящая, причёсанная академизмом или режиссурой, неостановимая и непрерывная акустико-металлизованная репродукция песни. Её навязывают нам уже не только эстрадные корпорации.
Свою лепту здесь горазда вносить даже церковь: её тяжёлые песенные каноны зазвучали из наружных уличных усилителей как бы взамен истощённого и опустошённого комсомольского репертуара. Кроме добавки к уличному городскому шуму, это ничего не даёт.
Непроизвольное, раскованное исполнение, в котором люди издавна испытывали непреходящую потребность выразить себя, свою глубинную сущность, эмоции, чувственность – всё это теперь оказалось опрокинутым, выброшенным из обихода. Его уже передёргивают, над ним с издёвкой посмеиваются. Так приходят новые эпохи, и этого, кажется, ничем невозможно предотвратить.
Будто стоном прорвётся иногда вне беснующихся сцен и динамиков подлинная прежняя самобытная или даже романсовая выпевка, но часто уже и не в полный голос и не полностью, а только скромным, почти как стыдливым отрывком, проискрится волнительными грустными блёстками по лицам исполнителей, слушающих самих себя, и – вновь отправляется в своё беззвучное небытие. Вполне возможно, что – навсегда, насовсем. Тешим себя надеждой, что такого не будет, не должно произойти. Но душу-то не закроешь. Уже, бывает, только в ней, а не на былом просторе тихим нутряным плачем прольётся самая близкая и, может быть, самая бесхитростная мелодия. Обычно это – песня матери. Она всегда – как бесценное сокровище. Вот один куплет:
I шумить, i гуде;
дрiбный дощик iде.
А хто ж мене, молоденьку,
тай до дому проведе?
Моя мама напевала этот фрагмент сама себе, когда ей было особенно тяжело и ей, из-за того, требовалось обязательно распеться также и в других лирических мелодиях. Что тут могло быть ещё особеннее, когда трое детей у неё умерли от голода, когда её муж, мой отец, погиб на войне, и ей оставалось только с утра до ночи бесплатно работать на колхозной мужской работе, не вылезая из нищеты?
Особенной была, конечно, сама песня, исторгавшаяся непереломленной оскорбелой душой. Сколько там теплоты, безыскусности, ласки, ожидания, жизни, воспоминания, будничной красоты! Может ли быть что-нибудь лучше, трогательнее, дороже в бескрайнем и уже будто опустыренном песенном море?
II
Средний возраст – непростое дело для человека.
Земную жизнь пройдя до половины,
я очутился в сумрачном лесу,
утратив правый путь… —
жаловался Алигьери. Чтобы не потерять себя в изгнании, он, как известно, оттуда как бы сбежал и не куда-нибудь, а на тот свет, рассказав о нём немало интересного, чем и прославился. Для Пушкина разлом его жизненного пути надвое был настолько болезненным, что в этом месте всё для него и закончилось.
Я перебирал в памяти эти и подобные им любопытные примеры из прошлого и находил, что они почти впрямую касаются и меня. Мой серединный рубеж тоже был совсем рядом. Судьбой не дано было выделиться мне в каком-нибудь геройстве или в эффектном падении. Страна, никуда не двигаясь, меня постоянно куда-то звала и понуждала двигаться, мешая собираться в своих, личных решениях. И, поскольку ценного результата здесь не могло быть, заменой служила оскорбляющая сплошная мучительная усталость. Я устал настолько, что, казалось, чуть ли не с каждой минутой куда-то падаю, проваливаюсь, и нет желания этому воспротивиться.
Вдоль насыпи железной дороги тянулись возвышения и распадки, поросшие густым лесом и уже тронутые ярким багрянцем осени. Поезд часто сбавлял ход или, наоборот, устремлялся в разбег, преодолевая один за другим вершинные участки на перевалах. В окно врывалась тугая масса лёгкого, чистого, промытого недавним дождём и хорошо угретого солнцем воздуха. Ехавшие пассажиры восхищённо осматривали роскошные, искрящиеся ландшафты, дружно и весело переговаривались. Их лица выражали восторг и удовольствие. Где-то в дальнем купе слышна была песня, хотя и с заметной текстовой фальшью, но почитаемая многими. А меня давившая тяжесть не отпускала и будто пригибала всё ниже. В таком состоянии добрался я наконец до посёлка, в который ехал с надеждой как-то, может быть, освободиться от накопившейся хандры.
План был простой: пожить у кого-нибудь на деревенский манер, отрешиться ото всего, что имело место в городской суете и в услужении государству рабов.
Посёлок был растянут вдоль станционных путей, и там, где переулки уходили вбок на каких-нибудь один-полтора километра от железной дороги, уже начинался так называемый хозяйственный лес. Его местами вырубали; он вырастал снова. Тут же были скотные выгоны и покосы. Этими зонами посёлок отделялся от леса уже коренного, куда вели узкие ухабистые, никогда полностью не просыхавшие и местами почти сплошь затянутые моложавым подлеском проезды, служившие для доставки хлыстов. Города, до которых в обоих направлениях тянулась железнодорожная магистраль, отстояли отсюда одинаково далеко. Станция была маленькая, её даже часто называли полустанком, соседних с нею, таких же, набиралось немного. Народ сюда жить не ехал, а молодёжь предпочитала здесь не задерживаться. Но в то время в таких местах уже начиналась возня с приобретением построек и участков под дачи.
Один мой знакомый, узнав, что я собираюсь в эту полудикую глухомань, уговорил меня разузнать, не мог ли бы он завести там свой островок покоя. Так что цель поездки состояла ещё и в этом.
Было время полдника. Проходя одним из переулков, я увидел старика, копавшего картошку на своём огороде. Мы быстро договорились. В качестве жилья он предложил мне в избе крохотную каморку без окон и без электричества, с выходом в сени. В каморке стоял топчан. С избой соседствовал сарай, где не было ни скота, ни мелкой живности. Чердак сарая прикрывался тесовой крышей и только одним фронтоном. Ни для чего, а как бы в память о былых обитателях подворья дед набросал наверх сена, припасённого в текущем сезоне, и теперь чердак, широко открытый настежь одной из своих сторон, годился на роль спальни даже лучше каморки.
Я сразу вызвался помочь старику. Мы вскопали всю картофельную делянку, перенесли клубни под навес, в избу из колодца я наносил с десяток вёдер воды, поколол чурбаков.
Моя прыть понравилась и хозяину, и его бабке. Был первый срок их совместной жизни после того как оба овдовели года, кажется, полтора назад. Бабка светилась, дед важничал. Не находя сил одной управляться с хозяйством, остававшимся при её избе по смерти мужа, она, как и её теперешний избранник, уже успела освободиться от скотины, правда, удержав-таки поросёнка. Разумеется, оба не прогнали собак. Дедов пёс был сущий лодырь, лаять совсем не старался, но был охочь до еды и до людской ласки. Новая хозяйка угождала ему изо всех сил.
Она согласилась помочь мне с парным молоком и с куриными яйцами, чего хватало у соседей, и, улучив момент, привела женщину, готовую каждый день трижды предоставлять эти продукты. Стояла пора здешнего бабьего лета. Я замыслил поспать непременно на сеновале. А перед тем, как подняться туда по лестнице, уже в этот же вечер испил первую большую кружку парного молока, в котором размешал пару сырых яиц. Коктейлю отводилась универсальная роль – и как полноценной негородской диете, и как превосходному лекарству, в том числе умиротворявшему дух, что для меня представлялось не менее важным. Со сном я, конечно, не торопился. Я смотрел с высоты чердака в тёплое звёздное осеннее небо, на углаженные сумерками отдалённые безбрежные переливы холмов и урочищ и начинал чувствовать, как меня обволакивает удовольствие быть сейчас именно в этом месте. Как будто я нахожусь тут постоянно, с какой-то давней поры. Кругом столько знакомого: звучные, открытые разговоры соседей, настойчивые редкие мычания потерявших дворы телят, беспричинные похрюкивания свиней, дружные мирные выплески собачьего лая, запахи навоза, ещё не вконец иссохшей травы, первых прелых листьев, хвои.
От станции и от расходившихся в стороны путей слышались то короткие, то протяжные гудки локомотивов; медленно росло, а потом так же медленно замирало эхо, объединявшее все до единого перестуки колёсных пар проезжавших поездов, – тяжёлые, с гулким присадом – грузовых, частые, клацающие – пассажирских. Тяготы, которые я привёз с собой, начинали сползать с меня. Больше того: мне уже верилось, что это не всё, должно произойти что-то, возможно, необычное и неожиданное. И как раз тут я услышал пение. Одинокий голос новой хозяйки легко и просто выходил на распев, забирая с собою мягкую тишину подступавшей поселковой ночи.
Я на той тропинке ещё не нагулялась,
а любовь для нас уже тогда старалась.
Такой песни и таких слов я никогда не слышал. Женщина дала ей совершенно непринуждённую яркую прорисовку уже буквально в этих первых двух строчках, одновременно обозначая расстановку дуэта. Дед не замедлил с поддержкой. Я удивился его несильному, но сочному баритону, какие у мужчин бывают, как правило, только в молодой поре.
Концерт не прерывался с добрый час. Репертуар меня поразил. В нём почти не было песен знакомых, затёртых непрофессиональным исполнением. И в то же время дуэт совсем не походил на такой, где бы видна была хоть какая профессиональная выучка. Свет в избе вскоре погас. «Вот дела!» – только и оставалось мне сказать самому себе, когда я поудобнее устраивал пахучее сенное подголовье.
Хотя проснулся я рано, старики были уже на ногах. Местное коровье стадо ещё только уходило на выгоны, обдавая посёлок цепочками цимбально-серебристых капель нашейных колокольчиков. Дед подлаживал дверь оскучавшего по живности сарая, что обозначало подготовку этой базовой части хозяйства к заселению, возможно, очень скорому. Бабка выдавала своё присутствие в доме лёгким посудным звоном и хлопаньем сенных дверей. Я пошёл прогуляться. В каких-то ста метрах отсюда, за крайними домами лежало небольшое озерцо с примыкавшими к нему полянами и разбросанными по ним старыми берёзами.
Распущенные пышные космы ветвей непринуждённо провисали высоко над землёй, и настолько же они не доставали её снизу, отражаясь в воде. Взор оглядывал всю прозрачную глубину озерца, полянное пространство далеко вперёд и по сторонам. Было совершенно безветренно; солнце только начинало подниматься; на все лады пели и щебетали птицы, часть которых уже запаздывала с перелётом. Заданная в ночь прохлада бодрила, так что сразу возникла мысль о том, чем конкретно я займусь в этот первый полный после приезда день. Ответ пришёл почти сразу. Чуть поодаль промеж берёз я заметил две фигурки старушек с кузовками. «Да тут ведь и грибы!» – попенял я себе за крайнюю непродуманность моего начавшегося пребывания в посёлке.
Вернувшись, я сообщил бабке, что готов хоть сейчас пойти в лес. «И я тоже собираюсь, – сказала она, – но позже, не торопись, покажу тебе, где лучше искать».
Пока надо было ждать, я расспрашивал деда, как это они с бабкой могут так красиво и слаженно петь. «Да у нас тут все так поют». «Это – как?» «Ну, поют и всё. Петь ведь лучше, когда поётся», – дед хитро улыбнулся. Он, видимо, был доволен, что остался нераскрытым и тем вроде как меня озадачил. «А как понимать – «лучше»?» – попробовал я нащупать искомое. «Ну, вот взять тебя: ты приехал, тебе привольно, легко, хорошо – так? В самый раз – петь». «Я не очень-то мастак, да и что же – прямо с утра?». «Хочешь, так и с утра, не возбраняется. Главное, чтоб пелось». «Вижу, вы меня разыгрываете. Но я в самом деле хотел бы знать, как это у вас поют все и что значит «когда лучше». «Что об этом говорить? Приличнее слышать. Время у тебя есть, послушаешь, тогда и спрашивать будет, может быть, нечего».
Своими ответами дед, что называется, обложил меня вкруговую: никакой ясности, куда бы ни сунуться. Хотя упрекать его было, разумеется, не в чем. Я решил, что, наверное, тороплюсь, так не стоит. И песняры, и посёлок – они тут, никуда не денутся, что-нибудь узнается обязательно.
Бабка, напомнив мне о коктейле, ушла проведать собственную избу. Дедова при свете дня смотрелась отменно уютной и чистой. Простенка здесь не было. Справа, недалеко от порога, высилась печь с плитой, и сразу дальше начиналась жилая площадь. Тут под прямым углом одна к другой стояли две панцирные кровати, каждая с высокой пуховой постелью и с горками мощных подушек, круглый стол под свежей скатертью, табуретки, лавки. Стены обвешаны семейными фото в рамках, где, кроме старика и его прежней супруги, я насчитал их пятерых детей, бывших детьми, вероятно, уже лет до сорока назад. Поскольку изба не была ветхой, то отсюда следовало, что семейство раньше проживало не здесь. Современную атрибутику представляли стандартный радиорепродуктор, как раз пиливший какую-то государственную музыку, и электрическая лампочка, укрытая абажуром домашней выделки.
Я разглядывал обстановку довольно долго и уже начинал скучать, когда вернулась бабка. Мы отправились, держа в руках плетёные лозовые корзинки. «Нынче на грибы урожай, – вводила меня попутчица в курс дела. – Тут вот рядом – не наши. Мы сходим за белыми».
Место сначала шло ровное, полянное; скоро оно сменилось густеющим лесом, уходившим на возвышение и перемежавшимся балками. Мы разошлись по сторонам. Где-то близко бродили коровы; уже знакомые колокольчики вытенькивали мелодию их присутствия, что имеет особый смысл, когда скотины не видно за деревьями.
Я подрезал плотные, свежие, смуглистые сверху башенки, с упоением вдыхал их зовущий аромат, азартно выискивал следующую грибную стайку, и вдруг мне как будто послышалось пение. Остановился. Бабкин голос. Тихий, лёгкий, тёплый, про себя. Он как бы возникал в себе и будто не только звучал сам, но ещё и вбирал в себя разбросанные по зарослям искристые перезвоны колокольчиков. Песня ещё не исполнялась, а только готовилась к исполнению, будучи неоформленной до конца ни в мелодии, ни в словах.
Бабуля сочиняла, импровизировала!
Я не вправе был мешать этому потрясающему запредельному таинству и замер, стараясь оставаться незамеченным.
Тогда моё крыльцо уж зореньку приветило.
Тебя война гнала. На станцию пора!
Я буду ждать. Я так тебе ответила, —
пройдёт пускай хоть век, но – от того утра.
Слова и звуки постоянно меняли семантику, то и дело отталкивались друг от друга или сближались; не был застылым и их нотный окрас. Появившись пока ещё только в своей части, песня уже нуждалась в собственной судьбе, настойчиво требовала своего завершения.
«Ой, напугал», – встрепенулась авторша, когда я, стараясь подойти поближе, неосторожно прохрустел сломанной под ногою веткой. Я извинился, сказал, что отойду, мешать не буду. «Чего там, – немедля замирилась женщина. – Вон сколько собрано. Чуток, и довольно. Обед уж проходит». – «А как же?..» – «Да, небось, будет ещё время, докончу. Иной раз вот так же начинаешь, перебьёт что-нибудь, да ничего, то, что хорошее, после уже выходит и быстрей, и, бывает, даже лучше». Бабка явно шла на опережение. Моя смущённость была ей неинтересна.