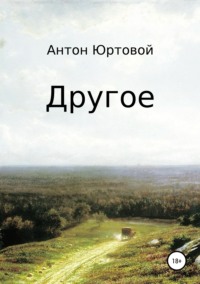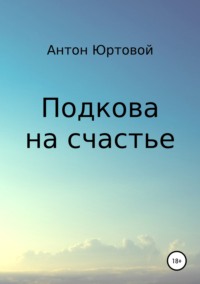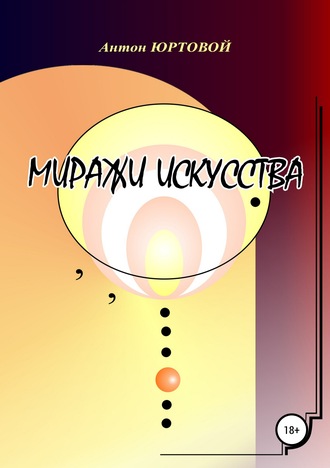
Миражи искусства
В те времена часто говорили и писали о мире, – и об его, так сказать, полном значении, в пределах земного шара и между странами, и как о предмете сугубо конкретном, бытовом, каждодневном. Шаг за шагом противоборствующие политики быстро погружали мир в омуты нервозной неуступчивости, верхом которой стал ядерный Карибский кризис, и не следовало те обсуждения считать беспочвенными. Со всеми заодно шумела интеллигенция, интеллектуальная молодёжь, в том числе рисующая.
В бесшабашный изобразительный ряд помещались ядерные грибы, саркастические физиономии врагов, броские плакатные композиции. В таком направлении выражали себя энтузиасты из числа так называемых защитников мира. Их отличали неумеренный патриотизм, горячность, полное подчёркнутое согласие с действиями по осуществлению миротворчества, которые проводились на уровне государственной власти.
Скромнее были амбиции у художников другого склада, умевших размышлять утончённее, показывать свои отношения вне прямой связи с политикой и орудиями войны. Эти создавали произведения, где мир виделся как бы уже установленным, таким, будто он завоёван фактически, а угроза хотя и есть, но всего лишь в воображении, и на неё даже можно закрыть глаза. Составляли их продукцию очень порой незатейливые пейзажи и ракурсы, взятые из обыденного.
Тут существовало, конечно, немало соблазнов приподнять или усилить выразительность хорошо всем знакомого. Но таилась и опасность: можно промахнуться и выдать банальную идиллию.
Я, торопившийся причислить себя к интеллектуалам, оказался представителем искреннего восприятия темы о мире в этом втором варианте.
По мере движения автобуса, в стороне, на пологих склонах, медленно и плавно один за другим тянулись шахтёрские посёлки. Местами они смыкались домиками или кусками огородов и пустырей. Различия не виделось почти никакого, так что я даже не придал значения тому, что в поле зрения входил и посёлок шахты, где я когда-то практиковался. Всё, что поддавалось обозрению, не выглядело ни удручающим, ни праздным. Солнечный свет разливался надо всем ровно, просто, легко. Не выпирали из общей картины изъяны крышных или стеновых очертаний, блёстки оконных стёкол; ничего не портил чуть заметный дым над печными трубами. Умиротворение. Величественность. Покой. Но особенный.
В котором – в избытке жизни.
Надо было остановиться, и я сделал это. Попросил шофёра тормознуть и вышел, соглашаясь на то, что ждать меня никто не станет. Нужно запомнить ситуацию в целом. Как? Прошёл немного пешком, вернулся, прошёлся ещё. Нет, пока не совсем то. Чуть поверх дороги, на недлинной отдельной улочке – дома. Сюда от горных кряжей мягкими свежими уступами тянулся лесистый отрог. Дорога шла ему впоперёк; справа и слева она уходила легкими уклонами книзу. Ближайший ко мне дом стоит немного отдельно. Он какой-то воздушный, привлекательный, чистый, с открытым двором, с открытою входной дверью. На летней веранде сидит, опустив ноги на ступеньки лестничного порога, бабушка. На её руках кот, которого она гладит.
Я прошу у неё разрешения подняться по наружной лестнице на чердак, и скоро уже, восхищённый, пялюсь оттуда во все глаза на панораму через оконное стекло.
Тёплою волною окутывается мозг: то, что надо! Едва не кричу от восторга. Разглядываю, стараясь примять волнение. Заставляю себя сдерживаться. Снова и снова обозначаю важное, существенное, нужное, обязательное, ценное. Если дать хорошую, умелую прорисовку, обогатить композиционно, лучшего и желать не надо.
Ах, мать честная, как великолепно, как здорово!
Старался я не для себя, для друга. Им был Керес. Мы встретились на военной службе, в одной части. После окончания техникума я призывался по специальности. В учебном отряде стал торпедным электриком, оставили там инструктором, позже перевели в бригаду торпедных катеров, где доверили содержать и готовить к занятиям базовый тренировочный комплекс управления торпедной стрельбой. Обучались на нём офицеры-катерники. Дело сугубо техническое, тусклое, полное обычной скуки. И то, что я узнал Кереса, было для меня просто везеньем и чертовски обрадовало.
Он состоял бригадным фотографом и художником: оформлял красные уголки, стенды, рисовал картины, плакаты, диаграммы, снимал памятные карточки. Нас обоих почти не посылали в караулы, не обременяли другими нудными хозяйственными обязанностями.
Я часто приходил к нему на стоявшее у пирса ржавое, списанное вспомогательное судёнышко, где под мастерскую отводилось одно из помещений, и здесь, под ровные, слышные через иллюминаторы всплески прибоя в незимнее время или под легкие посвисты пара, местами исходившие из протянутой к борту отопительной магистрали в холодный сезон, при непрерывной работе Кереса с рамками, красками, холстами, плёнками и прочим материалом, мы поверялись друг другу в устремлениях к искусству.
Незабываемые дни!
Разговоры начинали с чего угодно, переходили на что угодно, обоим было интересно. Увлекало, затягивало, обогащало.
Он сам не знал, по крайней мере, так он говорил, по какому случаю нацепили ему, русскому, такое странное, совершенно непонятное имя. Родной дом у него где-то в отдалённых координатах, на запертом непроходимой тайгою побережье; добираются туда только морем. Семья была из староверов. Он рассказывал несколько случаев диких притеснений и расправ над этим людом.
Один прямо-таки валил наповал.
Когда стало ясно, что староверы советской власти помощники никудышные, а ещё и настроенные по отношению к ней открыто враждебно, то не придумали «в назидание» иного как собрать наиболее неподатливых к сотрудничеству, силком загнали их на кое-как сколоченный бревенчатый плот и, утащив его возможно подальше катером в открытое предштормовое море, зимой, обрубили, как больше ненужный, буксирный трос.
Как и обречённые на расправу, жители посёлка уже заранее знали об этом. У берега остающимся разрешили собраться почти рядом, у края воды, над обрывом. Несколько из них, не выдержав, бросили себя вниз и утопились. О судьбе удалённых больше никто ничего не слышал. Конечно, они погибли. В их числе – трое ближних родственников Кереса.
Он прошёл фабрично-заводское обучение, потёрся в унизительной промышленной эксплуатации, в житейской нищете. Был запримечен как способный и безотказный в рисовании и фотографии. Думаю, я пользовался у него полнейшим доверием, поскольку переходившее на него клеймо социального изгоя он, судя по всему, не выставлял ни перед кем больше, и это было его значительной, важной тайной.
Огласка могла аукнуться в чём угодно.
В мастерской копилась тьма истрёпанных альбомов и листов самого разного формата с репродукциями скульптур, живописных полотен, эскизов. Я снабжал Кереса книгами. Десятки их, целый большой фанерный ящик из-под папирос «Беломор», обнаружились в комнатке, отгороженной от класса торпедной стрельбы, рядом с отопительной печью.
До моего сюда перевода в комнатке совмещал проживание с обязанностями по службе мой предшественник, сверхсрочник, мичман, покинувший часть при выходе на пенсию. Книги были его, а теперь ничьи. В основном художественная литература, воспоминания, памфлеты, история, философия. Из-за чего всё это осталось неувезённым, не знаю.
У мичмана виделись хорошие возможности приобретения новинок, а также оригинальный и отменный вкус. Это показывали и выбиравшиеся им издания, и его несчётные карандашные пометки, и целые пространные записи на полях страниц и на закладках – своеобразный дневник восприятий.
На самом дне ящика хоронилось «Житие» протопопа Аввакума. О нём я раньше только слышал. Керес же, оказывается, читал ещё до службы.
Вслед за мной он повторно бешено изучал любопытное, пламенное сочинение.
Если иметь в виду удалённость от гражданских учреждений культуры более-менее достойного уровня и очень редкие выходы в увольнения, то книги, как пища для интеллекта, были в то время нам, военным-срочникам, всего доступнее. Но и того не хватало.
Бригадная библиотека, практически растерявшая абонентский круг, пополнялась экземплярами не чаще одного раза в год. В неё переставали ходить. Мне и тут везло. Вскоре после моего назначения как раз пришла очередная партия. Я узнал об этом одним из первых, и мне-то в руки первому попал сборничек дотоле запрещённого Есенина.
Тут же потащил его к Кересу. Книгу мы жадно выхватывали из рук друг у друга, читая вслух попадавшие на глаза любые строфы и строчки. Сгорали от нетерпения узнать, кому из нас что представляется как наилучшее. Удивительно: остановились на одном, где Есенин объясняет сам себя, в своей предназначенности. Поэт формулирует то, что было для него главным уже с первых своих стихов и оставалось при нём до конца. Полная свобода и независимость, но не вообще, а в личном – при выражении индивидуального, темперамента. Талант оригинален и ярок только в этом случае.
Быть поэтом – это значит то же,
Если правды жизни не нарушить,
Рубцевать себя по нежной коже,
Кровью чувств ласкать чужие души.
Быть поэтом – значит петь раздолье,
Чтобы было для тебя известней.
Соловей поёт – ему не больно,
У него одна и та же песня.
Канарейка с голоса чужого —
Жалкая, смешная побрякушка.
Миру нужно песенное слово
Петь по-свойски, даже как лягушка.
Стихотворения покоряли полнейшей искренностью автора. Было ощущение, что вот сейчас он обсуждает с нами только что им написанное и здорово смущён небрежностями, которые не устранены не ввиду отсутствия грамотности, необходимой для сочинения стихов, а исключительно из желания не упустить возможности растолковать себя, чтобы быть лучше понятым. Указания на себя, такого, каким он был в жизни, встречаются в творчестве Есенина во множестве, они его, что называется, пронизывают, и нам с другом они были настолько ясны в своей простоте, что мы уже с удовольствием принимали близко к сердцу его целиком, не разделяя на отдельные произведения и легко извиняя самые очевидные небрежности, каких немало обнаруживалось…
Отслужил Керес раньше меня, поступил в художественное училище. Буквально в километре оттуда был и мой вуз. Приезжая сдавать зачёты, я навещал друга. И на новом месте он был постоянно занят. От учёбы старался брать максимально. Постоянно подрабатывал на жизнь, выбивая заказы на оформительство где-нибудь на предприятиях, в конторах, в ближайшей церкви. Там работал по ночам и в выходные дни. Имел дело в основном, конечно, с халтурой. Но соучащиеся любили его, а потому и меня, гостя при нём, принимали как своего.
В комнате, где ютилось человек, кажется, двенадцать, приглашали на скромный перекус, наперебой посвящали в бездны своей будущей профессии и даже в личные пристрастия, увлечения. Брали с собой в натурную клетушку. Постоянно где ни придётся усаживали позировать.
Я был не в меру тощим из-за гастрита, со впалыми щеками и ввалившимися глазницами; броско торчали скулы. То, на чём рисовальщики предпочитают набивать руку и глаз. Возражать было нечему. Сообща обкатывали знания истории искусства, новинки. Жаркими были мнения о фильме «Андрей Рублёв»3. Находили, что события в нём подавались умышленно тяжело, вязко, но, как произведением, восхищались. В кружке никого не нашлось, кто видел бы росписи Рублёва и Грека4 вживую и в таком большом количестве, так что кинокадры этого плана воспринимались не иначе как серьёзнейшее открытие.
Но разными были оценки в соотношениях с историей.
Чуть ли не большинство утверждало: позже искусство росписи и украшения храмов никогда уже не поднималось на столь могучие и притягательные вершины.
Керес эту точку зрения разделял и даже давал подробные пояснения. То показывало себя старорусское, дониконовское, как-то просто и не стараясь быть убедительным, утверждал он. Мне такой подход был в нём хорошо понятен.
Однажды он заговорил о своей преддипломной практике. Не удавалось нащупать тему работы. Поискать собирался в одной из полузахиревших деревень, вблизи какой-то стройки, рядом с рекой, с лесом.
– Там буду как дома; попью парного молочка, страх как соскучился, – немного задумчиво рассуждал он. Я, как мог, пытался поддержать, подсоветовать; кое-что казалось ему любопытным.
Теперь, имея в памяти чарующий образ мирного животворящего покоя в поселковом пришахтном пейзаже, было в высшей степени приятно поделиться им. Тем более, что Керес начинал торопиться. Его рюкзак лежал на кровати уже почти полностью упакованным.
– Вот тема для тебя, – сказал я ему почти с порога. И передал свои привезённые свежие восторги. Он приободрился, повеселел. Было видно, предложение ему пришлось, его смысл интригует. Был рад и я: не зря суетился.
Решили: не откладывая съездим туда вместе, благо это не очень далеко, хватало одного дня. Свою сессию мне почти не приходилось догонять.
И вот наступил тот день.
На попутках добрались часа за три.
На веранде того же дома сидела та же старая женщина, гладившая кота. Такими же были солнце, узкое марево по горизонту, крыши и стены домов, неоглядность равнинного заболоченного окоёма, пологие переливы обжитых балок и возвышений, лёгкий истапливаемый дым по-над тесовыми скатами.
Будто и не слышны никакие шумы. Будто пахнет свежеиспечёнными отломками хлеба и до блеска промытыми, заново отструганными полами. Искристое, но неброское торжество сущего, бытия.
Ещё на подъезде мы возбуждённо обсуждали видимое. Кересу нравилось. Он перенимал эстафету. И, поддаваясь порыву удовольствия, всё пристальнее во что-то всматривался. «Соизмеряет масштабы, детали, цвета, а насчёт целого, сомнений нет, он его уже принял, и, кажется, – окончательно», – думалось мне.
Поднялись на чердак. Отсюда картина открывалась ещё величественнее. Но Кереса она чем-то насторожила.
– С этой диспозиции я не сумею отобразить главное, – сказал он.
– Что – главное? – обомлел я.
– Ну, как это объяснить? Можно домыслить, но оно не получится таким, как на самом деле. В настоящем главное оно же и лучшее…
– Ты думаешь?.. Нет, не торопись. Погляди-ка вот так… – я лихорадочно призывал к себе в подмогу уже, казалось, навсегда плотно устоенные собственные мысли о природе эстетического, об элементах кажущегося и таинственного в нём, об озарениях, о миражах. То, что без моего нажима Керес охотно принял и уже столько лет взвешенно делит со мной. Неужели?.. Мысли запрыгали, завертелись, задёргались. А Керес будто застыл в сомнениях.
– Это будет не по мне, – сказал он.
– Хорошо, давай сойдём вниз, подвигаемся. Тебе нужна исходная позиция?
– Да. Но мы её можем не найти. Это редкость.
– Редкость. Но я-то её, полагаю, нашёл, и если бы…
– То от неё бы и танцевал, так? – прервал он мою фразу, которую я не совсем знал как закончить.
Мы отошли от дома, выделывали разные зигзаги по запылённым обочинам дороги, по самой дороге, по ближним пустовьям. Напряжённо взглядывал я на объект собственной надежды и чувствовал: Кересу уже становится неинтересно. Он машинально щёлкал фотоаппаратом, как-то безразлично высчитывал остающиеся неотснятыми кадры плёнки. По моей прикидке, им уже наступил конец. Видимо, и Керес больше ни на что не рассчитывал. Что-то во мне обрывалось и куда-то падало вместе со мной.
Взамен отложенной в уме прекрасной цельной панорамы стали появляться вовсе ей не присущие путающие фракции: буроватости, искосы в размерах, какой-то сажный привкус…
На пологом уклоне, поднимаясь к месту, где мы застряли в поиске и где цель окончательно истаивала в содержании, медленно и тяжело урчал грузовик-шасси с маршевыми стальными трубами внушительного диаметра, одним краем уложенные на прицепе. В обгон спешила стайка подростков велогонщиков.
Как раз был момент, когда и поезд, и его сопутчики вместе попадали в панорамный облог. Они проплыли мимо и уже удалялись, протаскивая за собой черноватый выхлопной шлейф.
Ещё миг, и всё вместе закрыли собою и своим неуместным появлением какие-то встречные машины.
– Всё, – сказали мы оба разом. Кажется, и понимали произошедшее мы одинаково огорчённо. А именно: что дальнейшие поиски ни к чему, делать тут уже нечего.
Возвращались опять попутными. Керес отправился к себе в общежитие, я в гостиницу.
– Ладно, не расстраивайся, в искусстве потери бывают и посущественней, – сказал он при расставании.
Мне утешение лишь прибавило досадной краски. Человек, ворочал я свою уязвлённую суть, не хочет выглядеть обиженным, пробует скрыть огорчение. Но я-то, а не кто иной втянул его в эту неладную ситуацию, в настоящий густой обман. Следующим утром Керес по телефону сообщил мне, что никуда не едет. В голосе чувствовались довольство, горение. Это было вопреки тому, чего я мог ожидать.
– Извини, – сказал. – Очень спешу. Обо всём после, – и положил трубку.
Спустя дня три, заглянув к нему в общежитскую комнату, я застал его работающим у мольберта.
– Глянь как чудесно, – он загадочно и торопливо улыбнулся прищуренными глазами. Протянул мне свежевысохший, но не разглаженный, скрученный по длине фотоснимок.
Это был тот самый, кульминационный миг нашей поисковой операции, когда мимо нас проплывал и уже отдалялся трубовоз, а с ним в одном движении, будто прилепленные к нему, неслись велогонщики.
– Когда ты… успел? – было моим первым вопросом.
– Ты присмотрись повнимательнее, – перебивая, встормошил меня Керес. – Частью объекты загораживают панораму, но и обогащают её. Не находишь? А там вот – то самое. Ты его, кажется, хотел показать…
Действительно, содержимое всего облога выражалось и через фон, и через ближние отчётливые контуры. И мне представлялось правдой, что и здесь, на фотобумаге, колёса, как и тогда, крутятся, и трубовоз, велогонщики продолжают своё движение, заявляя о своём присутствии в единственной и нетронутой доле времени. И будто это неостановленное движение специально возникло для утончённых восприятий.
– Это не всё, – довольный проговорил Керес. И познакомил меня с карандашным и акварельным эскизами. На мольберте помещён был и подрамник с уже натянутым на него холстом. На его лицевой стороне пробные мазки масляными красками – воплощение эскизов.
Я вгляделся: панорама интерпретировалась. Были сокращены излишества на фоновой части. Велосипедисты тянулись не следом, а уже обгоняли машину. В середине, как раз напротив штабеля стальных труб – девушка, чего не было на фотографии. У неё мягкие, сдержанные линии профиля, из-под кепочки-ветровки выпархивают и утягиваются назад серебристо-рыжеватые волосы, к вещовке, за плечи, перетекают простенькие, но изящные ремешки. Набирались и другие изменения, дополнения.
– Может, ещё нужен цветок? – поинтересовался я.
– Или – кот на плече. У неё, конечно, – парировал хозяин положения, указывая на подрисованную мадонну. И мы дружно расхохотались, не в силах и не желая остановиться. Громкий смех, будто усиленное эхо, бухнул по всей комнате. То была солидарность наших друзей, находившихся рядом и наблюдавших нашу с Кересом встречу.
– Одобрено к диплому, – Керес подытожил произведённый на меня эффект. И я понял, что теперь мы окончательно поменялись ролями: моя назойливость по выявлению ещё во многом скрытых для меня особенностей и глубины художественного восприятия как бы переходила к нему. Хотя это радовало, я чем-то одновременно был встревожен.
Пожелав другу успехов и распрощавшись, я продолжал думать об этом странном состоянии самого себя.
Такое вот переложение с фотографии, рассуждал я, даже усиленное воображением, явно слабее того, что представлялось натурально, при моём первом знакомстве с панорамой. Техническое копирование – это шаг не вперёд, а назад. С другой стороны, я сам усмотрел в эскизах и едва ли не полностью виденное мною воочию из чердачного окна. Этим подтверждалось также и то, что Керес воспринял мой идеал непритворно, таким, как он существовал у меня в мозгу и в чувственности. И однако же… Воплощённое его старательной рукой, – сможет ли оно соответствовать высшему, закрайнему смыслу? Уровню, который, что было совершенно очевидно и, как я понимал, – не мне одному, – непостижим.
Круг замыкался. Я перебирал варианты, в которых мог бы отшлифовать возражения. Кому? Наверное, нельзя было исключать и Кереса. Но не стали бы они элементарной придиркой, показателем духовной и моральной испорченности? На ум приходили творения художников, не удалявшиеся ни за какие пределы и в то же время – с огромным воздействием, даже на самих творцов. Откуда происходит их наполнение, порой трагическое, чудовищное, как у Бэзила5?
Почему запредельное виделось в обычном?
Разгадка так и не пришла. Работа Кереса была защищена им с оценкой отлично. Появились даже похвальные рецензии на неё в малочисленных местных газетах.
Я видел её в тот день, когда автор картины, получив документ о завершении учёбы в училище, прощался тут с педагогами и друзьями по студии. Тогда же прощались и мы с ним: насыщенных встреч, которыми раньше одаривала нас жизнь и к которым мы так привыкли, больше не стало.
Он скоро поступил в «Репинку»6, на очное отделение, чего добивался и о чём мечтал, закончил там полный курс и, преодолев железный занавес, выехал за границу, откуда уже не возвратился и где жил весь остаток своей жизни, меняя страны и города. Мы общались уже только на расстоянии и очень редко, сначала в письмах, а позже исключительно по телефону или посылая открытки, телеграммы.
Новые возможности давали интернет и спутниковая связь. Но с их появлением жизнь уже отмеривала для Кереса крайний рубеж.
Как самую дорогую реликвию храню я один из акварельных эскизов «Мира», подаренный мне другом ещё при начале его работы над зачётной картиной.
Без лишней скромности я мог считать себя имеющим касательство к делу, ускорившему рост и созревание таланта художника. Мне верилось, что в моих, пусть и не до конца ясных воззрениях, как в истоке, суждено было омыться его судьбе. И тем я должен бы навсегда быть благодарен также судьбе своей, собственной. Только вышло тут всё вовсе не так возвышенно, как должно бы казаться со стороны. Конечно, я имею в виду прежде всего Кереса, а не себя.
Об этом расскажу подробнее. Но до того хотел бы коротко обозначить преобладавшее в содержании моих изысканий в художественном и конкретно – в изобразительном.
Я любил их, эти изыскания, и в этой любви остаюсь до сих пор. Здесь околонаучное, исследовательское умеренно разбавлено беллетристикой. На уровне моей современности всего, совокупного или, по крайней мере, какой-то немалой его части со счёта не сбросить; но по большому счёту, который я веду сам, размах в этом не должен исходить из корысти. И всякие устремления перевести свой устоенный жанровый опыт в нечто практичное, вещественное, дающее материальный доход, постоянно мной пригибались.
Тут не обойтись было без соответствующего, развитого интеллекта. Но его не следовало выставлять на вид, не следовало допускать его соприкосновений с мелочным, примитивным.
Обычно я позволял себе лишь подсказки или советы кому-нибудь, кто неохотно выкладывался из-за лени, тупости или спеси. Например, как составителю или редактору мне требовалось просить ближайшего штатного художника проиллюстрировать некую вкусную прозу, стихотворение или книгу. А тот будто из великого одолжения бросает мне на стол первое, что подвернётся под его карандаш или фломастер, иногда вовсе неподходящее, грубоватое, пустое. Ещё и гоголя из себя строит. Меня это возмущало.
Я сам брался подбирать художников, сам обдумывал иллюстрации и предлагал воплотить такие проекты. Иные морщились, но в конце концов дело шло, и в ряде случаев совсем неплохо. Засчитывалось удачное не мне, но я был без претензий. Кое-кто из подобных опытов даже извлекал дивиденды.
Со временем я не мог не придти к мысли, что мои наклонности помогать художникам вот таким образом были во мне как бы особенностью, одной из таких черт характера, какие возникают неизвестно откуда и во множествах присущи также и другим людям. Тут следовало взглянуть на себя как можно строже, поскольку уяснение подобных вещей легко накладывалось и на ту отдалённую пору, когда мы с Кересом были ещё в исканиях целей и смысла творчества. Всё ли здесь происходило благополучно?
Я теперь знаю, что этот почти риторический вопрос вызревал во мне по основаниям весьма серьёзным. Хотя, если бы я ставил себя в положение человека более прагматичного, прямого, что ли, то я мог бы и отмахнуться и, как сказано, не создавать из мухи слона.
Ведь по-настоящему выбор по части служения духовному и мной, и Кересом, каждым отдельно, был к той поре уже сделан, и даже при том, что ни он, ни я не успели ещё произвести ничего фактурного, как личности мы уже могли считать себя состоявшимися. Значит, и моё тогдашнее предложение Кересу ни в коем случае не могло сопровождаться ничем иным, кроме пользы. Никак не вреда. Тем более, я ведь с этим предложением к нему, как, между прочим, и ко многим уже после, вовсе не навязывался.