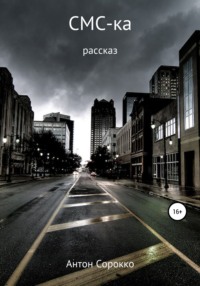APROSITUS. Ненайденный
Гуаньяменье всегда жил один. У него не было детей. Он был слишком стар и, как говорили в деревне, уже давно пережил всех своих детей, внуков и правнуков. Все мужчины в их племени хотели иметь детей, и все имели детей. Для старца Гуаньяменье детьми и внуками стали дети менсея Аитора.
Глава 17
Полуденное солнце нещадно палило Герману прямо в лицо. Спрятаться от него было некуда. Руки у него, как и у Андрея, были крепко стянуты за спиной, затекли и саднили, чувствовать их Герман почти перестал. Прячась от солнца, он нагибал голову, но тогда начинало печь затылок.
Андрей был привязан рядом. Рана на его плече уже не кровоточила, и он с благодарностью поглядывал на стройную тёмную девушку, мелькавшую следи столпившихся вокруг них аборигенов, умело наложившему ему повязку и обработавшую рану какой-то неведомой красной жидкостью. Потерять сознание он уже не боялся.
– Как твоя голова? – спросил Андрей.
– Нормально, болит.
– Здорово тебя пригрел это абориген.
Обоим очень хотелось пить, но никто из туземцев и не догадывался предложить им воды. Сначала Герман просил воды на испанском, потом на похожих португальском и итальянском, на всех остальных европейских языках. Он вспомнил даже арабский и иврит. Ответом ему были лишь непонимающие взгляды и улыбки. Когда жажда стала невыносимой, Герман перешёл на мимику: жестикулировать не позволяли связанные за спиной руки. На эти попытки туземцы отзывались всеобщим дружным хохотом и звали соседей посмотреть на бесплатный цирк.
– Вот идиоты! – не выдержал Андрей. – Дикари – они и в Африке дикари!
– Это папино?
– Папино, – слабо улыбнулся он в ответ.
Друзья были привязаны к странному серого цвета дереву, из ствола которого наружу торчали острые шипы. Любая попытка двинуться или размять затёкшие мышцы заканчивалась тем, что длинные, с полпальца, шипы больно впивались в спину и руки. Листьев на дереве не было и предназначение этого растения, иначе как столба для пленников, объяснить было нечем.
– А ведь я видел такое дерево на Тенерифе, – скривившись от очередного впившегося в поясницу шипа, припомнил Андрей. – В Лоро парке, у входа в аквариум. Фотография дома есть. Даже помню, как оно называется – дерево-пьяница. Моя жена ещё тогда пошутила, что название странное – не иначе названо так потому, что только пьяному взбредёт в голову на него забраться. Я бы ему точно не позавидовал. И поди ж ты, сижу теперь к нему привязанный. Вот судьба шутки устраивает…
– А я знаешь сейчас о чём вспомнил? – отозвался Герман. – Ты помнишь такого капитана Кука?
– Которого аборигены съели? Конечно.
– Да я сейчас не об этом, – улыбнулся Герман. – Его, может, и за дело съели…
– Ага, за то, что растранжирил у дикарей кассу…
– В семнадцатом веке Кук открыл Новую Зеландию. В то время там жили племена маори, да и до сих пор, кстати, живут. Так вот во время войн с соседними племенами маори всегда съедали побеждённых. Считалось, что таким образом к ним переходит жизненная энергия и сила врагов.
– Вот теперь ты меня успокоил! – выпучил глаза Андрей. – Вот это я понимаю! Очень, очень занимательная история! И самое главное, очень своевременная.
– Да ладно тебе, будем надеяться на то, что Новая Зеландия отсюда далеко, на противоположном конце земли, и что досюда тамошние людоеды не доплыли, – засмеялся Герман.
– Да? Тур Хейердал вон на папирусной лодке через океан плавал. Твои маори могли точно также и досюда доплыть. Так что не зарекайся. Ты говоришь по-маорийски, если что?
Чувство юмора Андрей, похоже, не терял никогда.
Ближе к вечеру начинающее садиться за горизонт солнце заслонила чья-то тень. Подняв голову, пленники увидели возвышающуюся над ними необъятную фигуру. Их разглядывал гигантского роста старик. Он определённо был шире и выше любого из своих соплеменников, не говоря уже о Германе, хмур и неприветлив. Его лоб бороздили глубокие морщины, а колючие светлые глаза терялись под кустистыми седыми бровями. Резко очерченные губы, широкие крылья носа и тяжелый взгляд выдавали в нём человека властного и сурового. Белая длинная борода спускалась до груди, почти закрывая выдающиеся вперёд грудные мышцы и ожерелье из крупных завивающихся раковин и ракушек. Голову старика покрывал треугольный колпак из шкур, те же шкуры покрывали торс и бёдра, а ноги были обуты в некое подобие кожаных лаптей.
– Похоже, появился главный, – нарушил тишину Андрей.
Старик вопросительно на него посмотрел, оглядел глазами собравшуюся за его спиной толпу, одними пальцами махнул всем уйти, дождался, пока последний из его соплеменников исчез из вида, и заговорил.
Голос у него был не по годам громким, потому здешнее певучее наречие в его устах звучало как-то угрожающе. Как ни старался напрягать слух и память Герман, из сказанного он не понял ни единого слова. Пытаясь донести до старика-великана эту мысль, он показал кистью привязанной руки на себя и отрицательно покачал головой. Старец пристально смотрел ему в глаза и замолчал.
– Наbla Español? – спросил Герман по-испански. Несмелая надежда на то, что хотя бы кто-то из местных жителей мог говорить по-испански, Германа давно уже покинула. Он задал вопрос машинально.
– Si, – неожиданно ответил старик.
– Андрей, он говорит по-испански! – пытаясь говорить спокойно и не выдать нахлынувших радостных чувств, произнёс вслух Герман. Андрей, и без того об этом догадавшийся, тоже оживился.
– Меня зовут Гуаньяменье, – продолжал тем временем старец по-испански. – Кто такие вы?
– Что он говорит, Гера? – заволновался в своих путах Андрей, выворачивая из неудобного положения голову в сторону товарища. – Ты его понимаешь?
– Говорит, что имя его Гуаньяменье.
– Я Герман, – ответил он старику, – а его зовут Андрей.
– Гуаньяменье? – шептал озадаченный Андрей, едва выговаривая непривычное имя. Он всегда терялся, слыша иностранную речь и непонятные слова, сейчас же пристальный взгляд старика ни быстроты мысли, ни уюта обстановке не добавлял и подавно. – Ну и имечко, я тебе доложу. Гуаньяменье… Не нравится оно мне. Шаман он что ли какой? Вот он-то, поди, и жрёт тут всех. И имя его как «проголодавшийся людоед», наверное, переводится…
– Погоди, Андрей, чем больше ты лопочешь, тем меньше он говорит… – отмахнулся он него Герман.
Старец и вправду замер, внимательно прислушиваясь к тому, что Андрей говорил.
– Спроси, где мы? – не унимался Андрей.
Герман спросил. Старец перевёл взгляд на Германа, но не ответил. Вместо ответа спросил сам:
– Ты испанец?
– Нет, – Герман отрицательно потряс головой.
– Чего-чего? – снова заволновался Андрей.
– Спрашивает, испанцы ли мы, – пояснил Герман.
– Нет, скажи ему, что мы русские. Тенерифе ищем.
– Тенерифе? – переспросил старец, видимо, услышав знакомое название.
В ответ Герман закивал, перевёл на испанский всё, что ему сказал Андрей, и добавил:
– Мы пришли с миром. Мы – друзья. Всё, что мы хотим – это добраться до дома.
Реакции Гуаньяменье на всё сказанное было не разобрать. Он стоял и молчал, переводя взгляд с одного пленника на другого. Герман видел, что с одной стороны абориген хоть и просто, но достаточно внятно изъяснялся по-испански, но с другой стороны, заставлял думать, что, возможно, туземец понимает язык плохо, а может, и не понимает его вообще. Как лингвист, Герман был к этому готов, потому что не раз сталкивался с тем, что люди быстро утрачивали знание языка за ненадобностью: кто знает, когда старик последний раз говорил с испанцем?
– Тенерифе… – задумчиво повторил ещё раз старец и глаза его, наконец, остановились на Андрее.
Взгляд у старика был тяжелым, пронизывающим и внимательным. Хоть великан смотрел и не на него, Герман поежился и подумал, что от такого взгляда невозможно было скрыть ни одной, даже самой потаённой, мысли. Андрей, тем не менее, держался молодцом и своего взгляда не отводил.
– К нам заезжало много чужеземцев, – начал старик на абсолютно правильном испанском. – Но они всегда уходили. Они приплывали на своих кораблях, высаживались на наши берега, ели наши фрукты, пили нашу воду, спали на нашей земле. Мы наблюдали за ними со скал, из-за деревьев. Мы не подавали им знаков. И они всегда уходили. Они не знали о нас. Мы не выдавали себя. Мы были невидимы, как тени в безлунную ночь, мы были бесшумны, как шепот листьев в ненастье. Мы смотрели на них и ждали. И они всегда уходили. Если они не уходили сами, их заставляли уйти наши Боги. Наши Боги затягивали небо над их головами тёмными тучами, Они посылали на землю молнии своего гнева, Они обрушивали на землю дождь и вспенивали волны. Они поднимали море и заливали песок под их ногами бурлящей волной. И тогда чужеземцы в страхе убегали. Они уходили туда, откуда пришли. Они были здесь не нужны.
Германа явно недооценил испанский старика. Не пытаясь скрыть своего изумления, весь подавшись вперед, он, не отрываясь, следил за губами старца, привыкая к его необычной певучей интонации и манере выговаривать слова. По-испански великан говорил явно не как испанец, но кастильское наречие у него было безукоризненное. Разве что после каждой фразы он делал большую паузу и как будто обдумывал свои слова. Герман старался не пропустить ни единого слова и не обращал внимания на дергавшего его за рукав и требовавшего перевода Андрея.
– Наш остров оставался недоступным чужеземцам, – продолжал тем временем Гуаньяменье. – Боги не простили им несправедливостей, которые они творили на нашей земле. Боги не простили вероломства и обмана, не простили крови и унижений нашего народа. Боги поклялись оградить этот последний остров от жестоких чужеземцев, сокрыть его от их предательских глаз, изгоняя с него всех, кто на него приплывал. Так было всегда. Почему Они оставили здесь вас?
Гуаньяменье перевел взгляд с отчаявшегося от бесплодных попыток дождаться перевода Андрея на Германа и снова повторил:
– Почему?
– Потому что мы пришли с миром, Гуаньяменье, – облизнув пересохшие губы, ответил Герман. – Потому что мы хотим вернуться назад. Туда, откуда пришли. Но мы не знаем, как это сделать. Мы не знаем где мы!
– Те другие тоже всегда приходили с миром, – ответил старик.
«Всё-таки и понимает он меня хорошо», – успел подумать Герман.
– Наши предки предвещали их приход, – продолжал старец. – Оракул Йонье с Эль Йерро, пророки Тибиабин и Тамонанте с Фуэртевентуры, провидец Гуаньяменье с Тенерифе. Они предрекали, что чужеземцы принесут им мир, спокойствие и благополучие.
– Они ошиблись? – спросил Герман, но старец будто снова его не слышал.
– Перед смертью оракул Йонье призвал народ к своему смертному одру. Он решил открыть им будущее, и слова его разливались в воздухе медленно и неспешно, открывая людям неведомую тайну.
«Я уйду, – сказал Йонье, – и когда моё тело исчезнет и станет пеплом, как ствол дерева исчезает и становится пеплом в пылающем пламени, когда мои белые кости превратятся в серый прах, тогда по морю в своих белых домах приплывёт Бог Ераоранан со своими посланниками. Захотят посланники высадиться на нашей земле. Не препятствуйте им никоим образом. Не причиняйте им вреда. Потому что принесут они лишь благо на нашу землю». Так сказал провидец Йонье перед тем, как испустить последний вздох, перед тем, как обёрнутое в шкуры тело его не упокоилось под сводами погребальной пещеры в безмолвии.
Прошли многие дни и ночи. Однажды жители острова увидели на горизонте поднятые паруса и корабли, приближавшиеся к их пляжам. Они вспомнили предсказания своего прорицателя. Они поднялись высоко в горы к погребальной пещере. Выполняя его последнюю волю, они придали огню тело оракула и превратили его кости в пепел. Они решили, что пришел тот самый день, о котором говорил Йонье. И встретили они пришельцев как желанных гостей, как долгожданных богов, сошедших к ним с небес.
Но не замедлили новоявленные боги превратиться в жестоких и беспощадных врагов, в варваров, опустошивших и разграбивших остров, в захватчиков, превративших его жителей в рабов. Вот тогда народ отвернулся от Йонье. Вот тогда те, кому оракул предрекал благополучие, отказались хранить его останки. Вот тогда они смешали его прах с камнями, чтобы не осталось о нём и воспоминания…
– Йонье с острова Эль Йерро? – повторил Герман. – А на каком острове мы? Мы далеко от Эль Йерро?
– Нет, вы недалеко от Эль Йерро.
– Андрей, мы недалеко от Эль Йерро, – быстро перевёл Герман товарищу.
– Так, а где мы? – Андрей вопросительно уставился на старика-великана.
– Он спрашивает, на каком же тогда острове мы? – медленно и внятно произнёс по-испански Герман.
– Вы на острове Апрозитус.
– Апрозитус? – повторил Герман. – Никогда о таком не слышал. По-моему, это что-то по гречески.
– Португальцы называли его Нон Трабада или Энкубьерта.
– То есть Ненайденный или Сокрытый…
– Испанцы звали его Исла Пердида.
– Потерянный остров…
– У нашего острова много имён, – старец не отрываясь смотрел Герману в глаза. – Но последние пятьсот лет его всегда называют одинаково: Сан Борондон.
Но и это название впечатление на Германа не произвело. Все эти названия не говорили ему ровным счётом ничего.
– Он сказал Сан Борондон? – переспросил вдруг Андрей.
Увидев утвердительный кивок Германа, он ошарашено замолчал, не в силах произнести ни слова. И Герман, и великан-абориген читали в его остановившемся взгляде и смятение, и радость, и растерянность, и восторг. Складывалось ощущение, что Андрей не мог до конца поверить в то, что только что услышал.
– Сан Борондон, – наконец выдавил из себя Андрей. – То есть он хочет сказать, что мы с тобой сейчас на том самом Сан Борондоне!?!?!?
Глава 18
Лайам О´Брайен сидел на террасе в ресторане гольф клуба «Абама». Пахло кофе и свежескошенной травой. Он всегда садился здесь, на воздухе, выбирая самый уединенный столик в дальнем конце террасы, в стороне от прочих посетителей. Над столиком нависали дырявые листья монстэры и яркие соцветия буганвиля.
Ему нравился вид, который открывался от этого столика. Вокруг зеленых, ухоженных лужаек поля змеились асфальтовые дорожки для гольф-каров, огибая пологие холмики и бесформенные озерца, которые служили игрокам дополнительным препятствием. Гольф-поле в «Абаме» было огромным, и без электромобильчика передвигаться от лунки к лунке было невозможно. За развесистыми пальмами внизу виднелись кирпично-красные здания одноименного пятизвёздочного отеля, окруженного с обеих сторон бескрайними банановыми плантациями: бананы на этом острове росли повсюду. Голубой океан оттенял изумрудную молодую зелень, а на горизонте возвышался подернутый дымкой силуэт соседнего острова Ла Гомера. Оазис, созданный Богом и человеком.
Разглядывая круглые купола и плоские крыши отеля, выстроенного в арабском стиле, ирландец в очередной раз удивлялся, почему именно восточные орнаменты так любимы современными архитекторами и декораторами. Глядя на отель, создавалось впечатление, что он где-нибудь в Маракеше. Хотя от посещения Марокко у О´Брайена остались исключительно приятные воспоминания.
О´Брайен наслаждался утром, думая о предстоящей игре, о чашке чая на свежем воздухе и симпатичной тёмненькой официантке-португалке, которой он, по заведённому между ними ритуалу, должен был строить глазки. Определенно, сегодня он пребывал в добрейшем расположении духа.
Официантка принесла ему чай. С блестящего серебряного подноса она снимала белый сервиз, декорированный четырьмя тонкими зелеными полосками, видимо, изображавшими бамбук. Перед ирландцем появились чашка, сахарницы с белыми и коричневыми кусочками сахара, заварной кувшинчик и носатый молочник со слегка подогретым по его вкусу молоком. На блюдечке виднелась квадратная шоколадка с узнаваемыми круглыми куполами «Абамы».
– Ваш чай, сэр, – бросив шутливый многозначительный взгляд и вскинув узкие иссиня-чёрные брови, на чистейшем английском прокомментировала португалка. – И тёплое молоко. Именно так, как Вы предпочитаете.
– Обригаду, София, – по-португальски поблагодарил он и, не отводя взгляда от её глаз, бросил на серебряный поднос сложенную вдоль пятиевровую бумажку. – Сдачи не надо.
– Вы очень любезны, сэр, – отреагировала на его привычные чаевые официантка.
– Хочешь зарабатывать сам, давай зарабатывать другим! Моя философия, – он улыбнулся ей своей очаровательной улыбкой, подмигнул и, проводив взглядом её удаляющуюся фигуру, вернулся к книжке, уже давно открытой на четвёртой главе.
Проходившие рядом пожилые итальянцы, если бы только они понимали английский, смогли бы прочесть на обложке: «Раймонд Рамсей: Открытия, которых никогда не было». Однако итальянцы лишь уважительно окинули взглядом набор первоклассных гольфовых клюшек О´Брайена, аккуратно поставленных на козлы, и прошли дальше, принявшись что-то громко между собой обсуждать.
О´Брайен тем временем уже погрузился в чтение:
«Ирландия – северо-западный форпост Европы, обращенный лицом к Северной Атлантике. Веками Ирландию знали во всей Западной Европе как страну, изобилующую легендами. Поэтому не удивительно, что именно там возник миф о двух самых больших сказочных островах Атлантического океана, одним из которых является остров Святого Брандана.
К сожалению, нам очень мало известно о том, как древние ирландцы странствовали по морям, но мы достоверно знаем о таких странствиях: из древнеирландского эпоса "Имрама" известно, что морские путешествия совершались в Ирландии еще до того, как стали фиксироваться исторические события.
Принятие христианства в Ирландии, возможно, явилось одним из стимулов к мореплаванию, по крайней мере, в религиозной среде. Как отшельники древней церкви искали утешения в египетской пустыне, так древние ирландские монахи стремились укрыться на пустынных островках лицом к лицу со свирепым западным океаном, где мужественное противостояние стихиям должно было способствовать их духовной закалке. Наиболее известным из отшельников был, по-видимому, святой Колумба, который в 563 году основал на Гебридских островах монастырь Айона. Но он был далеко не единственным, поэтому, знакомясь с путешествиями святого Брандана, необходимо помнить об этом. Нет сомнения в том, что Брандан – лицо историческое. На протяжении своей долгой жизни, а прожил он почти сто лет (484–577), он основал несколько монастырей. Наиболее известный из них монастырь в Клонферте, поэтому Брандана часто называют Брандан из Клонферта.
Сведения о событиях, связанных с этим именем, почерпнуты из разных источников, лучшим из которых является ирландский сборник о житиях святых, составленный в XIII веке на основе значительно более древних материалов. В нем рассказывается о том, как некий святой Брандан захотел найти свою собственную землю вдалеке от других людей и что во сне к нему явился ангел и уверил его в успешном завершении поисков. Он и несколько его спутников плыли пять лет, встречая на своем пути различные чудеса, и, наконец, достигли священного острова, который можно было легко узнать по "веренице поднимающихся с него ангелов".
Если оставить в стороне прикрасы, характерные для церковных писаний средневековья, то остальное звучит как весьма правдоподобный рассказ о путешествии, целью которого было найти уединенный остров. Такие путешествия были обычными для ирландских монахов. Через четыре века после смерти святого появилась книга на латинском языке "Плавание святого Брандана", источники и авторство которой остались неизвестными. В ней описывалось не одно, а два путешествия святого Брандана, и она была весьма популярна во всей средневековой Европа.
В какой-то момент древней истории Ирландии вера древних кельтов в существование в западном море райского Авалона переплелась с древним греко-римским поверьем о Гесперидах, или островах Фортуны, и в монастырских кругах стало распространяться смутное представление о существовании где-то на западе Блаженных островов. Если верить сомнительному повествованию "Плавания святого Брандана", то дело было так: добрый святой, найдя свой священный остров, возвратился в Ирландию, а позднее снова пустился в путь на поиски Блаженных островов. Он плыл семь лет и, в конце концов, нашел их.
Однако существует два варианта рукописи».
О’Брайен весь подался вперед, полностью уйдя в книгу, позабыв о полупустой чашке, застывшей в неудобно вытянутой руке. Он дошел то того места, которое искал. Описания второго варианта «Странствий» всегда были его любимым отрывком, какой бы из трудов о Сан Борондоне он не читал.
«В одном из них Брандан в поисках уединенного острова плыл на юг "сразу же под горой Атлас" (то есть у берегов Северной Африки), где прежде жил другой святой муж по имени Мернок. Последний якобы ушел в сад Эдема, который, как еще продолжали верить в средние века, существует где-то на земле. Святой Брандан, по-видимому, нашел свой остров без особого труда, хотя на пути туда он встретил гору всю в огне (вулканическая вершина острова Тенерифе?) и посетил соседнюю землю (Африку?), откуда привез фрукты и драгоценности.
Другой вариант более широко известен и гораздо более интересен. Святой Брандан в поисках Блаженных островов плыл с экипажем в шестьдесят человек на запад пятнадцать дней, затем его настиг штиль, продолжавшийся целый месяц, и, дрейфуя, он был прибит к острову, где экипаж обнаружил дворец со всякими яствами. Когда люди пополнили свои истощившиеся запасы, перед ними предстал сам дьявол, но не причинил им никакого вреда. Затем они плыли семь месяцев (направление не указано) и пристали к острову, на котором обитали гигантские овцы. Они убили одну из них, но, прежде чем они успели ее зажарить, остров погрузился в воду, превратившись в морское чудовище. Они продолжали плавание, и путешествие их растянулось на многие месяцы. Они посетили остров птиц (птицы в действительности были раскаявшимися падшими ангелами), остров с монастырем, основанным неизвестным "святым Альбеном", место, где море превращается в болото, остров, где рыбы ядовиты (белая птица предупредила их об опасности), видели еще одно морское чудище, похожее на остров, которое любезно позволило им высадиться, отметить праздник пятидесятницы и пробыть на нем семь недель.
Наконец, они достигли такого места, где "море спит" и где "холод нестерпим". Здесь их преследовал огнедышащий дракон, но в ответ на их молитвы появилось другое чудовище, которое побороло и убило дракона. Они увидели огромный сверкающий храм из хрусталя, выходящий из моря и возвышающийся над водой (айсберг?), и посетили другие острова. Отличительной чертой одних были огонь и дым, других – ужасающее зловоние. Они увидели, как перед ними появился страшный демон, который потом погрузился в море. Затем еще один остров весь из огня и дыма, потом остров, окутанный облаками, затем вход в ад и остров, где в муках содержится Иуда Искариотский. Наконец их поиски были вознаграждены: они достигли острова, где святой человек с седой головой сказал им, как добраться до Блаженного острова, который они ищут.
Они нашли этот остров, где их встретил другой святой в одежде из одних только перьев. В самых восторженных выражениях он описал им целительный климат и плодородие острова. В пещере святой Брандан нашел мертвого великана, которого вернул к жизни силой одной лишь своей святости. Великан назвал себя Макловиусом, крестился и сообщил, что его народу было известно христианское учение. Он попросил как милости возвратить ему вечный покой, что и было сделано.
Когда история святого Брандана стала общеизвестна, "святой Макловиус" был канонизирован народом, хотя никогда не признавался официальной церковью.
История превосходна, но, к сожалению, это все, что есть. Весьма сомнительно, что святой Брандан совершил какое-либо путешествие, которое могло бы лечь в ее основу. Об открытии Америки, которое некоторые исследователи усматривали в рассказе Брандана, уже и говорить не приходится. Вся эта история, возможно, не что иное, как обработка в духе христианства народного ирландского фольклора, взятого главным образом из "Имрамы", особенно из истории легендарного путешествия Майль-Дуйна, который на своем пути тоже встречал демонов и огненные острова. Почему из всех ирландских монахов-путешественников был выбран именно святой Брандан и почему подобные приключения были приписаны именно ему, сказать трудно: это вопрос, на который мог бы, вероятно, ответить только специалист по ирландской истории. Но, возможно, этот вопрос не столь существен и непосредственно не связан с легендарным островом».
О Брайен поставил, наконец, свою чашку на стол.
«Трудно сказать, принимали ли люди средневековья путешествие святого Брандана за подлинное или воспринимали эту повесть как религиозную аллегорию, но к тому времени, когда это повествование оставило свой след на карте, серьезные ученые были не очень склонны принимать всерьез полуязыческие легенды о "благословенных островах" в далеком океане. Примерно в XIII веке было высказано предположение, что святой Брандан совершил весьма обычное путешествие, во время которого он открыл остров или острова, возможно, уже известные в то время в других странах