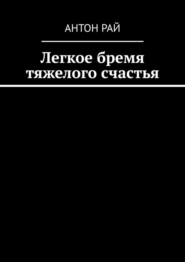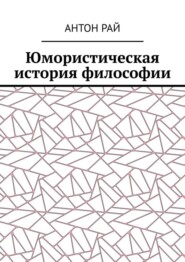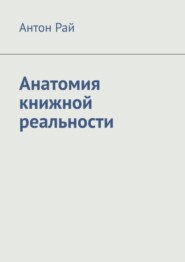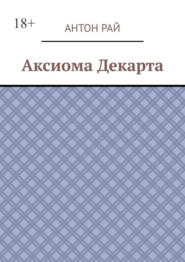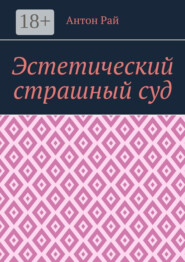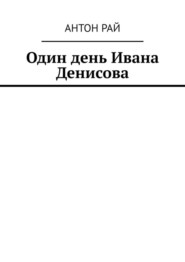По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
М.Ю.Л.
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Ты так думаешь? А я слышал мнение весьма уважаемых искусствоведов, что все эти три лица – Джоконда, Иоанн Креститель, святая Анна – совершенно одно и то же лицо.
– Хм… Я бы все же так не сказал. Знаешь, мне кажется…
– Так что тебе кажется?
– Не хочется разбрасываться скороспелыми суждениями…
– Ты ведь не на экзамене, сынок. Никто не посмеется над тобой и не ударит тебя указкой по руке. Да и я уверен, что, раз ты заявил о своем суждении, – оно уже достаточно вызрело.
– Нет, недостаточно. Я просто вот о чем подумал: лицо святой Анны – это как бы идеал, как он видится Леонардо. Я бы прибавил – абстрактный идеал, или идеал сам по себе. И этот идеал, он всё время Леонардо преследует, поэтому, в той или иной форме, он и заявляет о себе на многих его холстах. Но, повторюсь, сама святая Анна – это идеал именно в чистой его форме. А вот Джоконда – она куда более земная, она – живая женщина. То есть мы видим всё те же идеальные черты, но воплощенные в реальной женщине. Поэтому, возможно, именно эта картина и стала вершиной творчества Леонардо – потому что здесь воплотилась вся чистота идеала, но в его соприкосновении с реальностью. Абстрактное Прекрасное стало реально Прекрасным. Небеса сошли на Землю.
– Прекрасно сказано, сынок! Реально прекрасно! Я просто на седьмом небе от счастья!
…
Такого вот рода беседы случались у нас во время экскурсий по музеям мира. Как видите, отец не стеснялся всячески хвалить и даже захваливать меня – мать ему в этом слишком сильно не препятствовала, поэтому я рос уверенным в своих силах и даже несколько самоуверенным молодым человеком. Впрочем, стоило мне хотя бы немного снизить требования к себе, как отец из сказки превращался в отца из кошмаров. Правда, он ни разу не поднял на меня руку. Просто он становился отчужденно-холодным – и этого мне было вполне достаточно, чтобы снова начать «расти над собой». Мать любила меня более по-матерински – она не раз говорила, что ей все равно, кем я стану, лишь бы… Впрочем, лучше я опять припомню один семейный диалог:
Семейный диалог: «Кем станет наш сын, когда вырастет»
– Мне всё равно, кем ты станешь, лишь бы ты стал хорошим человеком… и не стал философом, – заявила как-то мама.
– Ба, – вмешался в разговор отец. – Чем плохи философы?
– При слове «философ» я сразу представляю себе кого-нибудь вроде Канта или Ницше. Бррр.
– Но Кант совершенно непохож на Ницше.
– В чем-то до странности похож. Все философы слишком не от мира сего, да и с головой у них очевидно не всё в порядке. Канта, сколько я его ни читала – всё время у меня только голова начинала раскалываться. Его чистый разум – это какое-то чистое безумие. А Ницше так прямо клинически сумасшедший.
– Попробуй-ка поищи Истину – у кого хочешь ум зайдет за разум или, выражаясь по-другому: спятишь, когда вокруг тебя сплошное безумие, а ты при этом ищешь Истину. Но кем ты все-таки хотела, чтобы стал наш сын?
– Ну, не знаю, может быть, поэтом…
– Поэтом? Да все поэты алкоголики и женолюбы, а если взять сегодняшний аналог поэтов – рок-звезд, так они еще и наркоманы поголовно.
– Твоя правда. В общем, кем бы ты ни захотел стать, сынок, помни, что мы тебя поддержим.
– Да, сынок, помни – каким бы наркоманом ты ни захотел стать, мы всегда найдем тебе лучшие наркотики.
– Не слушай отца, сын. Он, как обычно, завирается, потому что плохо видит границу, отделяющую то, что можно говорить, от того, что нельзя.
– И кто же проводит эту границу?
– Совесть, бессовестный ты мой.
– Ах, совесть, то есть наш внутренний Кант. А ты еще говоришь, что плохо его поняла.
– Не надо быть Кантом, чтобы правильно отделять должное от недолжного.
– Кант прямо так и говорит. Могу даже точно сказать – где[27 - «Таким образом, я не нуждаюсь в какой-нибудь глубокой проницательности, чтобы знать, как мне поступать, дабы мое воление было нравственно добрым. Не сведущий в обычном ходе вещей, не приспособленный ко всем происходящим в мире событиям, я лишь спрашиваю себя: можешь ли ты желать, чтобы твоя максима была всеобщим законом?» Или еще: «…для того, чтобы знать, как поступать, чтобы быть честными и добрыми и даже мудрыми и добродетельными, мы не нуждаемся ни в какой науке и философии. Уже заранее можно было предположить, что знание того, что каждому человеку надлежит делать и, сало быть, уметь, – это дело также каждого, даже самого простого, человека». (Иммануил Кант. «Основы метафизики нравственности»)].
– Только не сейчас, пожалуйста… У меня и от тебя уже голова разболелась, не хватало еще и Канта.
– Ну ничего, вот станет наш сын философом и примирит тебя с философией.
– Лишь бы стал хорошим человеком.
– Хороший философ – лучше, чем хороший человек.
– Нет никого лучше хорошего человека.
Был ли я хорошим человеком в период своего взросления? Не уверен. Нет, несмотря на некоторое высокомерие, я не слишком задавался (мать бы этого не потерпела), хотя, может, со стороны казалось, что и слишком. Но я никогда никого не задирал, никогда ни над кем не издевался. С другой стороны, я никому особо и не помогал. Я был очень от всех отстранен, что и неудивительно, настолько условия моей жизни отличались от условий жизни всех моих знакомых сверстников. Да, «отстраненный» – вот самое точное слово. Отстраненный до жестокости. Нагляднее всего жестокость моей отстраненности проявилась в 90-е годы, когда почва реальности поплыла под ногами у абсолютного большинства. А вот под моими ногами – нет. В моей жизни ничего не изменилось – тот волшебный замок, в котором я жил, остался всё тем же волшебным замком. Да, «Волшебный замок» – так папа в шутку называл нашу просторную семикомнатную квартиру, в которой помимо необходимых гостиной, детской и спальни, были еще и излишние с точки зрения необходимости столовая, «спортивная», библиотека и рабочий кабинет отца. Сегодня, конечно, роскошными апартаментами уже никого не удивишь, но раньше-то они были привилегией партийной и, в меньшей степени, артистической элиты. Впрочем, «роскошные» – неточное слово. Папа всегда настаивал на том, что ничего не только роскошного, но и мало-мальски лишнего у нас нет, а есть только именно что самое необходимое, и вообще, семи комнат нам еще и мало, и хорошо было бы иметь восьмую[28 - «– По какому делу вы пришли ко мне? Говорите как можно скорее, я сейчас иду обедать. – Мы, управление дома, – с ненавистью заговорил Швондер, – пришли к вам после общего собрания жильцов нашего дома, на котором стоял вопрос об уплотнении квартир дома… – Кто на ком стоял? – крикнул Филипп Филиппович, – потрудитесь излагать ваши мысли яснее. – Вопрос стоял об уплотнении. – Довольно! Я понял! Вам известно, что постановлением 12 сего августа моя квартира освобождена от каких бы то ни было уплотнений и переселений? – Известно, – ответил Швондер, – но общее собрание, рассмотрев ваш вопрос, пришло к заключению, что в общем и целом вы занимаете чрезмерную площадь. Совершенно чрезмерную. Вы один живёте в семи комнатах. – Я один живу и работаю в семи комнатах, – ответил Филипп Филиппович, – и желал бы иметь восьмую. Она мне необходима под библиотеку. Четверо онемели. – Восьмую! Э-хе-хе, – проговорил блондин, лишённый головного убора, – однако, это здорово». (М. А. Булгаков. «Собачье сердце»)] – комнату-обсерваторию, откуда мы могли бы созерцать в телескоп звездное небо. Разве это не самая настоятельная из необходимостей – ежедневно созерцать Вселенную?
Итак, папа называл нашу квартиру «Волшебным замком» – в шутку, но по сути он был прав. Тот отрезок жизни мне и сейчас кажется не вполне реальным, но ведь я и жил скорее в сказке, чем в реальности. Невзгоды внешней жизни чудесным образом обходили нас стороной. Моя собственная жизнь была предельно насыщенна и увлекательна. Стоило мне чего-нибудь пожелать, и желание мое тут же исполнялось. Сказка.
Но вернусь в 90-е. Помню, однажды я шел по улице и увидел длиннющую очередь в магазин. Стоит отметить, что я нечасто обращал внимание на очереди, можно сказать, вообще их не замечал – очередь была для меня чем-то вроде фона, причем фона чаще всего нежелательно-отвлекающего. Представьте себе, что вы идете и повторяете про себя концепцию судьбы в «Государстве» Платона, а тут – очередь. Реальность прекрасных идей Платона была для меня куда реальнее людского раздражительного массива. И главное, я не мог понять: зачем они стоят («зачем» в обоих смыслах: и «зачем», и «за чем»), чего раздражаются? И вот однажды я решил все же спросить и, преодолев некоторую брезгливость, обратился к одному из стоящих:
– Не скажете, а за чем тут очередь?
– За сметаной.
– И сколько же вам приходится ждать?
Очередник посмотрел на меня с удивлением – должно быть, его удивила и суть вопроса, и обращение на «вы».
– Сколько ждать? Да еще часа полтора как минимум.
– А сколько вы уже тут стоите?
– Часа два стою.
– То есть вы уже простояли два часа и будете стоять еще два – только чтобы сметаны купить?
Тут очередник посмотрел на меня уже с раздражением.
– А ты знаешь, где можно быстрее отовариться? Или ты из этих – у которых всегда всё есть?
Почувствовав в голосе очередника враждебность, я поспешил уйти. И, да, я был «из этих» – и даже не задумывался об этом. У меня всё было, и это было естественно. У других многого не было, и это было странно. Придя домой, я захотел пересказать «происшествие со сметаной» матери – в шутливых отцовских тонах, – но шутки не получилось:
– Мам, представляешь, я сегодня видел вот такууую очередь в магазин – угадай, за чем?
– За чем же?
– За сметаной! Представляешь, какие остолопы! Стоять часами – за сметаной! Я бы и пяти минут не выстоял. Очень нужна эта сметана! А они – стоят. Остолопы.
Тут мама реально разозлилась – уверен, что она и ударила бы меня, если бы это только было для нее возможным. Но, не умея ударить меня физически, она постаралась побольнее ударить меня словом:
– Слушай, сын, если ты еще раз оскорбишь людей, которые стоят в очередях, потому что у них нет буквально самого необходимого, то я перестану считать тебя своей матерью. Ты понял? Ты понял меня?