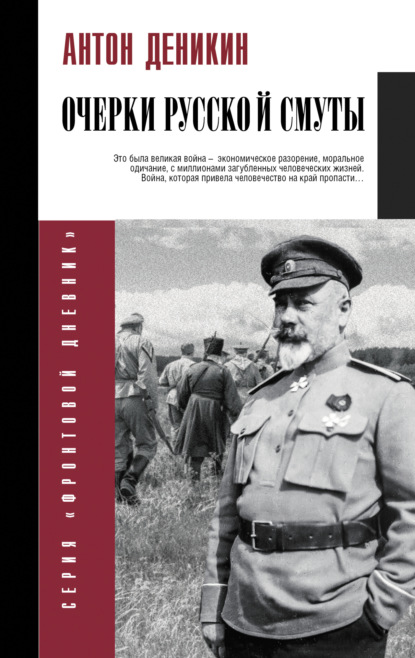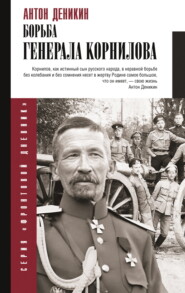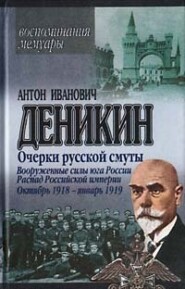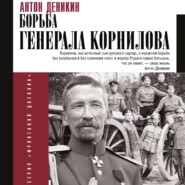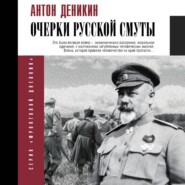По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Очерки русской смуты
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
В мое время в Академии, как и в армии, не видно было интереса к активной политической работе. Мне никогда не приходилось слышать о существовании в Академии политических кружков или об участии слушателей ее в конспиративных организациях. Задолго до нашего выпуска, еще в дни дела Рыкачева, тогдашний начальник Академии, генерал Драгомиров, беседуя по этому поводу с академистами, сказал им:
– Я с вами говорю как с людьми, обязанными иметь свои собственные убеждения. Вы можете поступать в какие угодно политические партии. Но прежде чем поступить, снимите мундир. Нельзя одновременно служить своему царю и его врагам.
Этой традиции, без сомнения, придерживались и позднейшие поколения академистов.
Некоторые академические курсы, серьезное чтение, общение с петербургской интеллигенцией разных толков значительно расширили мой кругозор. Познакомился я случайно и с подпольными изданиями, носившими почему-то условное название «литература», главным образом пропагандными, на которых воспитывались широкие круги нашей университетской молодежи. Сколько искреннего чувства, подлинного горения влагала молодежь в ту свою работу!.. И сколько молодых жизней, многообещающих талантов исковеркало подполье!
Приходят однажды ко мне две знакомые курсистки и в большом волнении говорят:
– Ради Бога, помогите! У нас ожидается обыск. Нельзя ли спрятать у вас на несколько дней «литературу»?..
– Извольте, но с условием, что я лично все пересмотрю.
– Пожалуйста!
В тот же вечер они притащили ко мне три объемистых чемодана. Я познакомился с этой нежизненной, начетнической «литературой», которая составляла во многих случаях духовную пищу передовой молодежи. Думаю, что теперь дожившим до наших дней составителям и распространителям ее было бы даже неловко перечитать ее. Лозунг – разрушение, ничего созидательного, и злоба, ненависть – без конца. Тогдашняя власть давала достаточно поводов для ее обличения и осуждения, но «литература» оперировала часто и заведомой неправдой. В рабочем и крестьянском вопросе – демагогия, игра на низменных страстях, без учета государственных интересов. В области военной – непонимание существа армии как государственно-охранительного начала, удивительное незнание ее быта и взаимоотношений. Да что говорить про анонимные воззвания, когда бывший офицер, автор «Севастопольских рассказов» и «Войны и мира», яснополянский философ Лев Толстой сам писал брошюры[13 - «Письмо к фельдфебелю», «Солдатская памятка», «Не убий»…], призывавшие армию к бунту и поучавшие: «Офицеры – убийцы… Правительства со своими податями, с солдатами, острогами, виселицами и обманщиками-жрецами – суть величайшие враги христианства…»
Такое же отрицательное впечатление производило на меня позже чтение нелегальных журналов, издававшихся за границей и проникавших в Россию: «Освобождения» Струве – органа, который имел целью борьбу за конституцию, но участвовал в подготовке первой революции (1905 года); «Красного Знамени» Амфитеатрова, в особенности – за его грубейшую демагогию. В этом последнем журнале можно было прочесть такое откровение: «Первое, что должна будет сделать победоносная социалистическая революция, это, опираясь на крестьянскую и рабочую массу, объявить и сделать военное сословие упраздненным…»
Какую участь старалась подготовить России «революционная демократия» перед лицом надвигавшейся, вооруженной до зубов пангерманской и паназиатской (японской) экспансии? Что же касается «социалистической революции» и «военного сословия», то история уже показала нам, как это бывает…
В академические годы сложилось мое политическое мировоззрение. Я никогда не сочувствовал ни «народничеству» (преемники его – социал-революционеры) – с его террором и ставкой на крестьянский бунт, ни марксизму – с его превалированием материалистических ценностей над духовными и уничтожением человеческой личности. Я приял российский либерализм в его идеологической сущности, без какого-либо партийного догматизма. В широком обобщении это приятие приводило меня к трем положениям: 1) конституционная монархия, 2) радикальные реформы и 3) мирные пути обновления страны.
Это мировоззрение я донес нерушимо до революции 1917 года, не принимая активного участия в политике и отдавая все свои силы и труд армии.
Первый год академического учения окончился для меня печально. Экзамен по истории военного искусства сдал благополучно у профессора Гейсмана и перешел к Баскакову. Досталось Ваграмское сражение. Прослушав некоторое время, Баскаков прервал меня:
– Начните с положения сторон ровно в 12 часов.
Мне казалось, что в этот час никакого перелома не было. Стал сбиваться. Как я ни подходил к событиям, момент не удовлетворял Баскакова, и он раздраженно повторял:
– Ровно в 12 часов.
Наконец, глядя, как всегда, бесстрастно-презрительно, как-то поверх собеседника, он сказал:
– Быть может, вам еще с час подумать нужно?
– Совершенно излишне, господин полковник.
По окончании экзамена комиссия совещалась очень долго. Томление… Наконец выходит Гейсман со списком, читает отметки и в заключение говорит:
– Кроме того, комиссия имела суждение относительно поручиков Иванова и Деникина и решила обоим прибавить по полбалла. Таким образом, поручику Иванову поставлено 7, а поручику Деникину 6?.
Оценка знания – дело профессорской совести, но такая «прибавка» была лишь злым издевательством: для перевода на второй курс требовалось не менее 7 баллов. Я покраснел и доложил:
– Покорнейше благодарю комиссию за щедрость.
Провал. На второй год в Академии не оставляли, и, следовательно, предстояло исключение.
Забегу вперед.
Через несколько лет я получил реванш. Война с Японией… 1905 год… Начало Мукденского сражения… Генерал Мищенко лечится от ран, а для временного командования его Конным отрядом прислан генерал Греков и при нем начальником штаба – профессор, полковник Баскаков… Я был в то время начальником штаба одной из мищенковских дивизий. Мы уже повоевали немножко и приобрели некоторый опыт. Баскаков – новичок в бою и, видимо, теряется. Приезжает на мой наблюдательный пункт и спрашивает:
– Как вы думаете, что означает это движение японцев?
– Ясно, что это начало общего наступления и охвата правого фланга наших армий.
– Я с вами вполне согласен.
Еще три-четыре раза приезжал Баскаков осведомиться, «как я думаю», пока не попал у нас под хороший пулеметный огонь, после чего визиты его прекратились.
Должен сознаться в человеческой слабости: мне доставили удовлетворение эти встречи как отплата за «12-й час» Ваграма и за прибавку полбалла…
Итак, провал. Возвращаться в бригаду после такого афронта не хотелось. Отчаяние и поиски выхода: отставка, перевод в Заамурский округ пограничной стражи, инструктором в Персию?
В конце концов принял наиболее благоразумное решение – начать все сначала. Вернулся в бригаду и через три месяца держал экзамен вновь на первый курс; выдержал хорошо (14-м из 150)[14 - Много помогали мне для конкурса высокие баллы до двум предметам: по математике – 11? и за русское сочинение – 12.] и окончил Академию… можно бы сказать, благополучно, если бы не эпизод, о котором идет речь в следующей главе.
Академический выпуск
Военный министр Куропаткин решил произвести перемены в Академии. Генерал Леер был уволен, а начальником Академии назначен бывший профессор и личный друг Куропаткина, генерал Сухотин. Назначение это оказалось весьма неудачным.
Я не буду углубляться в специальный круг научной академической жизни. Буду краток. По характеру своему человек властный и грубый, ген. Сухотин внес в жизнь Академии сумбурное начало. Понося гласно и резко и самого Леера, и его школу, и его выучеников, сам он не приблизил нисколько преподавание к жизни. Ломал, но не строил. Его краткое – около 3 лет – управление Академией было наиболее сумеречным ее периодом…
Весною 1899 года последний наш «лееровский» выпуск заканчивал третий курс при Сухотине. На основании закона были составлены и опубликованы списки окончивших курс по старшинству баллов. Окончательным считался средний балл из двух: 1) среднего за теоретический двухлетний курс и 2) среднего за три диссертации. Около 50 офицеров, среди которых был я, тогда штабс-капитан артиллерии, причислялись к корпусу Генерального штаба; остальным, также около 50, предстояло вернуться в свои части. Нас, причисленных, пригласили в Академию, от имени Сухотина поздравили с причислением, после чего начались практические занятия по службе Генерального штаба, длившиеся две недели.
Мы ликвидировали свои дела, связанные с Петербургом, и готовились к отъезду в ближайшие дни.
Но вот однажды, придя в Академию, мы были поражены новостью. Список офицеров, предназначенных в Генеральный штаб, был снят, и на место его вывешен другой, на совершенно других началах, чем было установлено в законе. Подсчет окончательного балла был сделан как средний из четырех элементов: среднего за двухгодичный курс и каждого в отдельности за три диссертации. Благодаря этому в списке произошла полная перетасовка, а несколько офицеров попали за черту и были заменены другими.
Вся Академия волновалась. Я лично удержался в новом списке, но на душе было неспокойно.
Предчувствие оправдалось. Прошло еще несколько дней, и второй список был также отменен. При новом подсчете старшинства был введен отдельным пятым коэффициентом – балл за «полевые поездки», уже раз входивший в подсчет баллов. Новый – третий список, новая перетасовка и новые жертвы – лишенные прав, попавшие за черту офицеры…
Новый коэффициент имел сомнительную ценность. Полевые поездки совершались в конце второго года обучения. В судьбе некоторых офицеров балл за поездки, как последний, являлся решающим. По традиции, на прощальном обеде партия, если в рядах ее был офицер, которому не хватало «дробей» для обязательного переходного балла на третий курс (10), обращалась к руководителю с просьбой о повышении оценки этого офицера. Просьба почти всегда удовлетворялась, и офицер получал высший балл, носивший у нас название «благотворительного».
При просмотре третьего списка оказалось, что четыре офицера, получивших некогда такой «благотворительный» балл (12), попали в число избранных и столько же состоявших в законном списке было лишено прав[15 - У меня в нормальном порядке был балл – 11.].
В числе последних был и я. Казалось, все кончено… Еще через несколько дней академическое начальство, сделав вновь изменения в подсчете баллов, объявило четвертый список, который оказался окончательным. И в этот список не вошли я и еще три офицера, лишенные таким образом прав.
Кулуары и буфет Академии, где собирались выпускные, представляли в те дни зрелище необычайное. Истомленные работой, с издерганными нервами, не уверенные в завтрашнем дне, они взволнованно обсуждали стрясшуюся над нами беду. Злая воля играла нашей судьбой, смеясь и над законом, и над человеческим достоинством.
Вскоре было установлено, что Сухотин, помимо конференции и без ведома Главного штаба, которому была подчинена тогда Академия, ездит запросто к военному министру с докладами об «академических реформах» и привозит их обратно с надписью «согласен».
Несколько раз сходились мы – четверо выброшенных за борт, чтобы обсудить свое положение. Обращение к академическому начальству ни к чему не привело. Один из нас попытался попасть на прием к военному министру, но его без разрешения академического начальства не пустили. Другой, будучи лично знаком с начальником канцелярии военного министерства, заслуженным профессором Академии генералом Ридигером, явился к нему. Ридигер знал все, но помочь не мог:
– Ни я, ни начальник Главного штаба ничего сделать не можем. Это осиное гнездо опутало совсем военного министра. Я изнервничался, болен и уезжаю в отпуск.
На мой взгляд, оставалось только одно – прибегнуть к средству законному и предусмотренному Дисциплинарным Уставом: к жалобе. Так как нарушение наших прав произошло по резолюции военного министра, то жалобу надлежало подать его прямому начальнику, т. е. государю. Предложил товарищам по несчастью, но они уклонились.