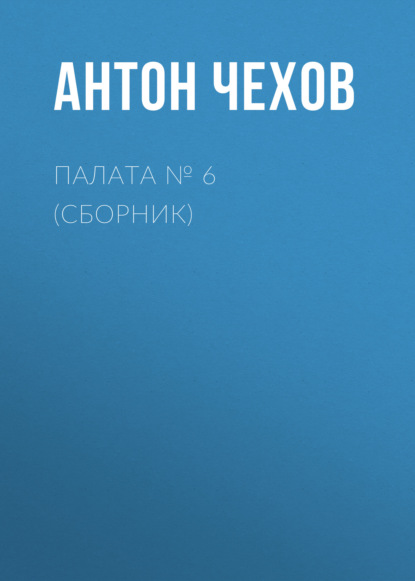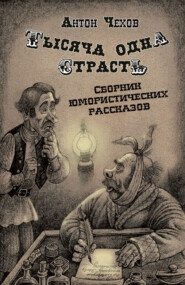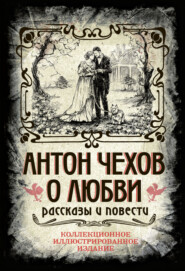По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Палата № 6 (Сборник)
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Я забыл расположение комнат, – сказал он в сильном замешательстве. – Странный дом. Не правда ли, странный дом?
Когда он надевал шубу, то был будто ошеломлен, и лицо его выражало боль. Лаптев уже не чувствовал гнева; он испугался, и в то же время ему стало жаль Федора, и та теплая, хорошая любовь к брату, которая, казалось, погасла в нем в эти три года, теперь проснулась в его груди, и он почувствовал сильное желание выразить эту любовь.
– Ты, Федя, приходи завтра к нам обедать, – сказал он и погладил его по плечу. – Придешь?
– Да, да. Но дайте мне воды.
Лаптев сам побежал в столовую, взял в буфете, что первое попалось ему под руки, – это была высокая пивная кружка, – налил воды и принес брату. Федор стал жадно пить, но вдруг укусил кружку, послышался скрежет, потом рыдание. Вода полилась на шубу, на сюртук. И Лаптев, никогда раньше не видавший плачущих мужчин, в смущении и испуге стоял и не знал, что делать. Он растерянно смотрел, как Юлия и горничная сняли с Федора шубу и повели его обратно в комнаты, и сам пошел за ними, чувствуя себя виноватым.
Юлия уложила Федора и опустилась перед ним на колени.
– Это ничего, – утешала она. – Это у вас нервы…
– Голубушка, мне так тяжело! – говорил он. – Я несчастлив, несчастлив… но все время я скрывал, скрывал!
Он обнял ее за шею и прошептал ей на ухо:
– Я каждую ночь вижу сестру Нину. Она приходит и садится в кресло возле моей постели…
Когда час спустя он опять надевал в передней шубу, то уже улыбался, и ему было совестно горничной. Лаптев поехал проводить его на Пятницкую.
– Ты приезжай к нам завтра обедать, – говорил он дорогой, держа его под руку, – а на Пасху поедем вместе за границу. Тебе необходимо проветриться, а то ты совсем закис.
– Да, да. Я поеду, я поеду… И сестреночку с собой возьмем.
Вернувшись домой, Лаптев застал жену в сильном нервном возбуждении. Происшествие с Федором потрясло ее, и она никак не могла успокоиться. Она не плакала, но была очень бледна и металась в постели и цепко хваталась холодными пальцами за одеяло, за подушку, за руки мужа. Глаза у нее были большие, испуганные.
– Не уходи от меня, не уходи, – говорила она мужу. – Скажи, Алеша, отчего я перестала богу молиться? Где моя вера? Ах, зачем вы при мне говорили о религии? Вы смутили меня, ты и твои друзья. Я уже не молюсь.
Он клал ей на лоб компрессы, согревал ей руки, поил ее чаем, а она жалась к нему в страхе…
К утру она утомилась и уснула, а Лаптев сидел возле и держал ее за руку. Так ему и не удалось уснуть. Целый день потом он чувствовал себя разбитым, тупым, ни о чем не думал и вяло бродил по комнатам.
XVI
Доктора сказали, что у Федора душевная болезнь. Лаптев не знал, что делается на Пятницкой, а темный амбар, в котором уже не показывались ни старик, ни Федор, производил на него впечатление склепа. Когда жена говорила ему, что ему необходимо каждый день бывать и в амбаре, и на Пятницкой, он или молчал, или же начинал с раздражением говорить о своем детстве, о том, что он не в силах простить отцу своего прошлого, что Пятницкая и амбар ему ненавистны и проч.
В одно из воскресений, утром, Юлия сама поехала на Пятницкую. Она застала старика Федора Степаныча в той самой зале, в которой когда-то, по случаю ее приезда, служили молебен. Он, в своем парусинковом пиджаке, без галстука, в туфлях, сидел неподвижно в кресле и моргал слепыми глазами.
– Это я, ваша невестка, – сказала она, подходя к нему. – Я приехала проведать вас.
Он стал тяжко дышать от волнения. Она, тронутая его несчастьем, его одиночеством, поцеловала ему руку, а он ощупал ее лицо и голову и, как бы убедившись, что это она, перекрестил ее.
– Спасибо, спасибо, – сказал он. – А я вот глаза потерял и ничего не вижу… Окно чуть-чуть вижу и огонь тоже, а людей и предметы не замечаю. Да, я слепну, Федор заболел, и без хозяйского глаза теперь плохо. Если случится какой беспорядок, то взыскать некому; избалуется народ. А отчего это Федор заболел? От простуды, что ли? А я вот никогда не хворал и никогда не лечился. Никаких я докторов не знал.
И старик, по обыкновению, стал хвастать. Между тем прислуга торопливо накрывала в зале на стол и ставила закуски и бутылки с винами. Было поставлено бутылок десять, и одна из них имела вид Эйфелевой башни. Подали полное блюдо горячих пирожков, от которых пахло вареным рисом и рыбой.
– Прошу дорогую гостью закусить, – сказал старик.
Она взяла его под руку и подвела к столу, и налила ему водки.
– Я к вам и завтра приеду, – сказала она, – и привезу с собой ваших внучек, Сашу и Лиду. Они будут жалеть и ласкать вас.
– Не нужно, не привозите. Они незаконные.
– Почему же незаконные? Ведь отец и мать их были повенчаны.
– Без моего позволения. Я не благословлял их и знать не хочу. Бог с ними.
– Странно вы говорите, Федор Степаныч, – сказала Юлия и вздохнула.
– В Евангелии сказано: дети должны уважать и бояться своих родителей.
– Ничего подобного. В Евангелии сказано, что мы должны прощать даже врагам своим.
– В нашем деле нельзя прощать. Если будешь всех прощать, то через три года в трубу вылетишь.
– Но простить, сказать ласковое, приветливое слово человеку, даже виноватому, – это выше дела, выше богатства.
Юлии хотелось смягчить старика, внушить ему чувство жалости, пробудить в нем раскаяние, но все, что она говорила, он выслушивал только снисходительно, как взрослые слушают детей.
– Федор Степаныч, – сказала Юлия решительно, – вы уже стары, и скоро бог призовет вас к себе; он спросит вас не о том, как вы торговали и хорошо ли шли ваши дела, а о том, были ли вы милостивы к людям; не были ли вы суровы к тем, кто слабее вас, например, к прислуге, к приказчикам?
– Для своих служащих я был всегда благодетель, и они должны за меня вечно бога молить, – сказал старик с убеждением; но, тронутый искренним тоном Юлии и желая доставить ей удовольствие, он сказал: – Хорошо, привозите завтра внучек. Я велю им подарочков купить.
Старик был неаккуратно одет, и на груди, и на коленях у него был сигарный пепел; по-видимому, никто не чистил ему ни сапог, ни платья. Рис в пирожках был недоварен, от скатерти пахло мылом, прислуга громко стучала ногами. И старик, и весь этот дом на Пятницкой имели заброшенный вид, и Юлии, которая это чувствовала, стало стыдно за себя и за мужа.
– Я к вам непременно приеду завтра, – сказала она.
Она прошлась по комнатам и приказала убрать в спальне старика и зажечь у него лампадку. Федор сидел у себя в комнате и смотрел в раскрытую книгу, не читая; Юлия поговорила с ним и у него тоже велела убрать, потом пошла вниз к приказчикам. Среди комнаты, где обедали приказчики, стояла деревянная некрашеная колонна, подпиравшая потолок, чтобы он не обрушился; потолки здесь были низкие, стены оклеены дешевыми обоями, было угарно и пахло кухней. По случаю праздника все приказчики были дома и сидели у себя на кроватях в ожидании обеда. Когда вошла Юлия, они вскочили с мест и на ее вопросы отвечали робко, глядя на нее исподлобья, как арестанты.
– Господи, какое у вас дурное помещение! – сказала она, всплескивая руками. – И вам здесь не тесно?
– В тесноте, да не в обиде, – сказал Макеичев. – Много вами довольны и возносим наши молитвы милосердному богу.
– Соответствие жизни по амбиции личности, – сказал Початкин.
И, заметив, что Юлия не поняла Початкина, Макеичев поспешил пояснить:
– Мы маленькие люди и должны жить соответственно званию.
Она осмотрела помещение для мальчиков и кухню, познакомилась с экономкой и осталась очень недовольна.
Вернувшись домой, она сказала мужу:
– Мы должны как можно скорее перебраться на Пятницкую и жить там. И ты каждый день будешь ездить в амбар.
Потом оба сидели в кабинете рядом и молчали. У него было тяжело на душе, и не хотелось ему ни на Пятницкую, ни в амбар, но он угадывал, о чем думает жена, и был не в силах противоречить ей. Он погладил ее по щеке и сказал:
Когда он надевал шубу, то был будто ошеломлен, и лицо его выражало боль. Лаптев уже не чувствовал гнева; он испугался, и в то же время ему стало жаль Федора, и та теплая, хорошая любовь к брату, которая, казалось, погасла в нем в эти три года, теперь проснулась в его груди, и он почувствовал сильное желание выразить эту любовь.
– Ты, Федя, приходи завтра к нам обедать, – сказал он и погладил его по плечу. – Придешь?
– Да, да. Но дайте мне воды.
Лаптев сам побежал в столовую, взял в буфете, что первое попалось ему под руки, – это была высокая пивная кружка, – налил воды и принес брату. Федор стал жадно пить, но вдруг укусил кружку, послышался скрежет, потом рыдание. Вода полилась на шубу, на сюртук. И Лаптев, никогда раньше не видавший плачущих мужчин, в смущении и испуге стоял и не знал, что делать. Он растерянно смотрел, как Юлия и горничная сняли с Федора шубу и повели его обратно в комнаты, и сам пошел за ними, чувствуя себя виноватым.
Юлия уложила Федора и опустилась перед ним на колени.
– Это ничего, – утешала она. – Это у вас нервы…
– Голубушка, мне так тяжело! – говорил он. – Я несчастлив, несчастлив… но все время я скрывал, скрывал!
Он обнял ее за шею и прошептал ей на ухо:
– Я каждую ночь вижу сестру Нину. Она приходит и садится в кресло возле моей постели…
Когда час спустя он опять надевал в передней шубу, то уже улыбался, и ему было совестно горничной. Лаптев поехал проводить его на Пятницкую.
– Ты приезжай к нам завтра обедать, – говорил он дорогой, держа его под руку, – а на Пасху поедем вместе за границу. Тебе необходимо проветриться, а то ты совсем закис.
– Да, да. Я поеду, я поеду… И сестреночку с собой возьмем.
Вернувшись домой, Лаптев застал жену в сильном нервном возбуждении. Происшествие с Федором потрясло ее, и она никак не могла успокоиться. Она не плакала, но была очень бледна и металась в постели и цепко хваталась холодными пальцами за одеяло, за подушку, за руки мужа. Глаза у нее были большие, испуганные.
– Не уходи от меня, не уходи, – говорила она мужу. – Скажи, Алеша, отчего я перестала богу молиться? Где моя вера? Ах, зачем вы при мне говорили о религии? Вы смутили меня, ты и твои друзья. Я уже не молюсь.
Он клал ей на лоб компрессы, согревал ей руки, поил ее чаем, а она жалась к нему в страхе…
К утру она утомилась и уснула, а Лаптев сидел возле и держал ее за руку. Так ему и не удалось уснуть. Целый день потом он чувствовал себя разбитым, тупым, ни о чем не думал и вяло бродил по комнатам.
XVI
Доктора сказали, что у Федора душевная болезнь. Лаптев не знал, что делается на Пятницкой, а темный амбар, в котором уже не показывались ни старик, ни Федор, производил на него впечатление склепа. Когда жена говорила ему, что ему необходимо каждый день бывать и в амбаре, и на Пятницкой, он или молчал, или же начинал с раздражением говорить о своем детстве, о том, что он не в силах простить отцу своего прошлого, что Пятницкая и амбар ему ненавистны и проч.
В одно из воскресений, утром, Юлия сама поехала на Пятницкую. Она застала старика Федора Степаныча в той самой зале, в которой когда-то, по случаю ее приезда, служили молебен. Он, в своем парусинковом пиджаке, без галстука, в туфлях, сидел неподвижно в кресле и моргал слепыми глазами.
– Это я, ваша невестка, – сказала она, подходя к нему. – Я приехала проведать вас.
Он стал тяжко дышать от волнения. Она, тронутая его несчастьем, его одиночеством, поцеловала ему руку, а он ощупал ее лицо и голову и, как бы убедившись, что это она, перекрестил ее.
– Спасибо, спасибо, – сказал он. – А я вот глаза потерял и ничего не вижу… Окно чуть-чуть вижу и огонь тоже, а людей и предметы не замечаю. Да, я слепну, Федор заболел, и без хозяйского глаза теперь плохо. Если случится какой беспорядок, то взыскать некому; избалуется народ. А отчего это Федор заболел? От простуды, что ли? А я вот никогда не хворал и никогда не лечился. Никаких я докторов не знал.
И старик, по обыкновению, стал хвастать. Между тем прислуга торопливо накрывала в зале на стол и ставила закуски и бутылки с винами. Было поставлено бутылок десять, и одна из них имела вид Эйфелевой башни. Подали полное блюдо горячих пирожков, от которых пахло вареным рисом и рыбой.
– Прошу дорогую гостью закусить, – сказал старик.
Она взяла его под руку и подвела к столу, и налила ему водки.
– Я к вам и завтра приеду, – сказала она, – и привезу с собой ваших внучек, Сашу и Лиду. Они будут жалеть и ласкать вас.
– Не нужно, не привозите. Они незаконные.
– Почему же незаконные? Ведь отец и мать их были повенчаны.
– Без моего позволения. Я не благословлял их и знать не хочу. Бог с ними.
– Странно вы говорите, Федор Степаныч, – сказала Юлия и вздохнула.
– В Евангелии сказано: дети должны уважать и бояться своих родителей.
– Ничего подобного. В Евангелии сказано, что мы должны прощать даже врагам своим.
– В нашем деле нельзя прощать. Если будешь всех прощать, то через три года в трубу вылетишь.
– Но простить, сказать ласковое, приветливое слово человеку, даже виноватому, – это выше дела, выше богатства.
Юлии хотелось смягчить старика, внушить ему чувство жалости, пробудить в нем раскаяние, но все, что она говорила, он выслушивал только снисходительно, как взрослые слушают детей.
– Федор Степаныч, – сказала Юлия решительно, – вы уже стары, и скоро бог призовет вас к себе; он спросит вас не о том, как вы торговали и хорошо ли шли ваши дела, а о том, были ли вы милостивы к людям; не были ли вы суровы к тем, кто слабее вас, например, к прислуге, к приказчикам?
– Для своих служащих я был всегда благодетель, и они должны за меня вечно бога молить, – сказал старик с убеждением; но, тронутый искренним тоном Юлии и желая доставить ей удовольствие, он сказал: – Хорошо, привозите завтра внучек. Я велю им подарочков купить.
Старик был неаккуратно одет, и на груди, и на коленях у него был сигарный пепел; по-видимому, никто не чистил ему ни сапог, ни платья. Рис в пирожках был недоварен, от скатерти пахло мылом, прислуга громко стучала ногами. И старик, и весь этот дом на Пятницкой имели заброшенный вид, и Юлии, которая это чувствовала, стало стыдно за себя и за мужа.
– Я к вам непременно приеду завтра, – сказала она.
Она прошлась по комнатам и приказала убрать в спальне старика и зажечь у него лампадку. Федор сидел у себя в комнате и смотрел в раскрытую книгу, не читая; Юлия поговорила с ним и у него тоже велела убрать, потом пошла вниз к приказчикам. Среди комнаты, где обедали приказчики, стояла деревянная некрашеная колонна, подпиравшая потолок, чтобы он не обрушился; потолки здесь были низкие, стены оклеены дешевыми обоями, было угарно и пахло кухней. По случаю праздника все приказчики были дома и сидели у себя на кроватях в ожидании обеда. Когда вошла Юлия, они вскочили с мест и на ее вопросы отвечали робко, глядя на нее исподлобья, как арестанты.
– Господи, какое у вас дурное помещение! – сказала она, всплескивая руками. – И вам здесь не тесно?
– В тесноте, да не в обиде, – сказал Макеичев. – Много вами довольны и возносим наши молитвы милосердному богу.
– Соответствие жизни по амбиции личности, – сказал Початкин.
И, заметив, что Юлия не поняла Початкина, Макеичев поспешил пояснить:
– Мы маленькие люди и должны жить соответственно званию.
Она осмотрела помещение для мальчиков и кухню, познакомилась с экономкой и осталась очень недовольна.
Вернувшись домой, она сказала мужу:
– Мы должны как можно скорее перебраться на Пятницкую и жить там. И ты каждый день будешь ездить в амбар.
Потом оба сидели в кабинете рядом и молчали. У него было тяжело на душе, и не хотелось ему ни на Пятницкую, ни в амбар, но он угадывал, о чем думает жена, и был не в силах противоречить ей. Он погладил ее по щеке и сказал: