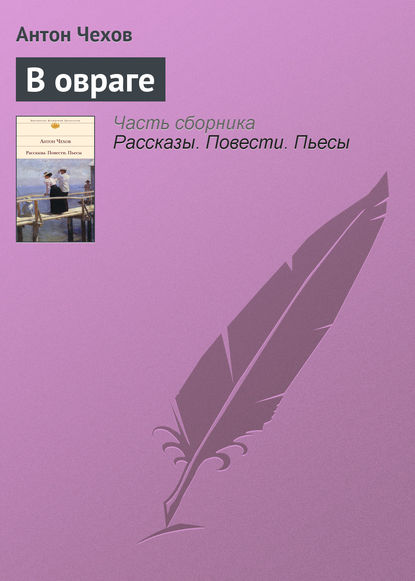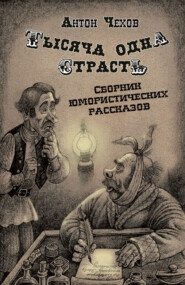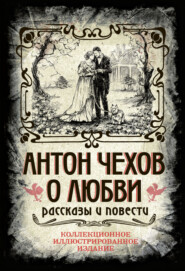По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
В овраге
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
И только когда все разошлись, Липа поняла, как следует, что Никифора уже нет и не будет, поняла и зарыдала. И она не знала, в какую комнату идти ей, чтобы рыдать, так как чувствовала, что в этом доме после смерти мальчика ей уже нет места, что она тут ни при чем, лишняя; и другие это тоже чувствовали.
– Ну, что голосишь там? – крикнула вдруг Аксинья, показываясь в дверях; по случаю похорон она была одета во всё новое и напудрилась. – Замолчи!
Липа хотела перестать, но не могла, и зарыдала еще громче.
– Слышишь? – крикнула Аксинья и в сильном гневе топнула ногой. – Кому говорю? Пошла вон со двора, и чтоб ноги твоей тут не было, каторжанка! Вон!
– Ну, ну, ну!.. – засуетился старик. – Аксюта, угомонись, матушка… Плачет, понятное дело… дитё померло…
– Понятное дело… – передразнила его Аксинья. – Пускай переночует, а завтра чтобы и духу ее тут не было! Понятное дело!.. – передразнила она еще раз и, засмеявшись, направилась в лавку.
На другой день рано утром Липа ушла в Торгуево к матери.
IX
В настоящее время крыша на лавке и дверь выкрашены и блестят как новые, на окнах по-прежнему цветет веселенькая герань, и то, что происходило три года назад в доме и во дворе Цыбукина, уже почти забыто.
Хозяином считается, как и тогда, старик Григорий Петрович, на самом же деле всё перешло в руки Аксиньи; она и продает, и покупает, и без ее согласия ничего нельзя сделать. Кирпичный завод работает хорошо; оттого, что требуют кирпич на железную дорогу, цена его дошла до двадцати четырех рублей за тысячу; бабы и девки возят на станцию кирпич и нагружают вагоны и получают за это по четвертаку в день.
Аксинья вошла в долю с Хрымиными, и их фабрика теперь называется так: «Хрымины Младшие и K°». Открыли около станции трактир, и уже играют на дорогой гармонике не на фабрике, а в этом трактире, и сюда часто ходит начальник почтового отделения, который тоже завел какую-то торговлю, и начальник станции тоже. Глухому Степану Хрымины Младшие подарили золотые часы, и он то и дело вынимает их из кармана и подносит к уху.
В селе говорят про Аксинью, что она забрала большую силу; и правда, когда она утром едет к себе на завод, с наивной улыбкой, красивая, счастливая, и когда потом распоряжается на заводе, то чувствуется в ней большая сила. Ее все боятся и дома, и в селе, и на заводе. Когда она приходит на почту, то начальник почтового отделения вскакивает и говорит ей:
– Покорнейше прошу садиться, Ксения Абрамовна!
Один помещик, щеголь, в поддевке из тонкого сукна и в высоких лакированных сапогах, уже пожилой, как-то, продавая ей лошадь, так увлекся разговором с ней, что уступил ей, сколько она пожелала. Он долго держал ее за руку и, глядя ей в ее веселые, лукавые, наивные глаза, говорил:
– Для такой женщины, как вы, Ксения Абрамовна, я готов сделать всякое удовольствие. Только скажите, когда мы можем увидеться, чтобы нам никто не помешал?
– Да когда вам угодно!
И после этого пожилой щеголь заезжает в лавочку почти каждый день, чтобы выпить пива. А пиво ужасное, горькое, как полынь. Помещик мотает головой, но пьет.
Старик Цыбукин уже не вмешивается в дела. Он не держит при себе денег, потому что никак не может отличить настоящих от фальшивых, но молчит, никому не говорит об этой своей слабости. Он стал как-то забывчив, и если не дать ему поесть, то сам он не спросит; уже привыкли обедать без него, и Варвара часто говорит:
– А наш вчерась опять лег не евши.
И говорит равнодушно, потому что привыкла. Почему-то и летом и зимой одинаково он ходит в шубе и только в очень жаркие дни не выходит, сидит дома. Обыкновенно, надевши шубу и подняв воротник, запахнувшись, он гуляет по деревне, по дороге на станцию, или сидит с утра до вечера на лавочке около церковных ворот. Сидит и не пошевельнется. Прохожие кланяются ему, но он не отвечает, так как по-прежнему не любит мужиков. Когда его спрашивают о чем-нибудь, то он отвечает вполне разумно и вежливо, но кратко.
В селе идут разговоры, будто невестка выгнала его из собственного дома и не дает ему есть и будто он кормится подаяниями; одни рады, другие жалеют.
Варвара еще больше пополнела и побелела, и по-прежнему творит добрые дела, и Аксинья не мешает ей. Варенья теперь так много, что его не успевают съедать до новых ягод; оно засахаривается, и Варвара чуть не плачет, не зная, что с ним делать.
Об Анисиме стали забывать. Как-то пришло от него письмо, написанное в стихах, на большом листе бумаги в виде прошения, всё тем же великолепным почерком. Очевидно, и его друг Самородов отбывал с ним вместе наказание. Под стихами была написана некрасивым, едва разборчивым почерком одна строчка: «Я всё болею тут, мне тяжко, помогите ради Христа».
Однажды – это было в ясный осенний день, перед вечером – старик Цыбукин сидел около церковных ворот, подняв воротник своей шубы, и виден был только его нос и козырек от фуражки. На другом конце длинной лавки сидел подрядчик Елизаров и рядом с ним школьный сторож Яков, старик лет семидесяти, без зубов. Костыль и сторож разговаривали.
– Дети должны кормить стариков, поить… чти отца твоего и мать, – говорил Яков с раздражением, – а она, невестка-то, выгнала свекра из цобственного дома. Старику ни поесть, ни попить – куда пойдет? Третий день не евши.
– Третий день! – удивился Костыль.
– Вот так сидит, всё молчит. Ослаб. А чего молчать? Подать в суд, – ее б в суде не похвалили.
– Кого в суде хвалили? – спросил Костыль, не расслышав.
– Чего?
– Баба ничего, старательная. В ихнем деле без этого нельзя… без греха то есть…
– Из цобственного дома, – продолжал Яков с раздражением. – Наживи свой дом, тогда и гони. Эка, нашлась какая, подумаешь! Я-аз-ва!
Цыбукин слушал и не шевелился.
– Собственный дом или чужой, всё равно, лишь бы тепло было да бабы не ругались… – сказал Костыль и засмеялся. – Когда в молодых летах был, я очень свою Настасью жалел. Бабочка была тихая. И, бывало, все: «Купи, Макарыч, дом! Купи, Макарыч, дом! Купи, Макарыч, лошадь!» Умирала, а всё говорила: «Купи, Макарыч, себе дрожки-бегунцы, чтоб пеши не ходить». А я только пряники ей покупал, больше ничего.
– Муж-то глухой, глупый, – продолжал Яков, не слушая Костыля, – так, дурак-дураком, всё равно, что гусь. Нешто он может понимать? Ударь гуся по голове палкой – и то не поймет.
Костыль встал, чтобы идти домой на фабрику. Яков тоже встал, и оба пошли вместе, продолжая разговаривать. Когда они отошли шагов на пятьдесят, старик Цыбукин тоже встал и поплелся за ними, ступая нерешительно, точно по скользкому льду.
Село уже тонуло в вечерних сумерках, и солнце блестело только вверху на дороге, которая змеей бежала по скату снизу вверх. Возвращались старухи из леса и с ними ребята; несли корзины с волнушками и груздями. Шли бабы и девки толпой со станции, где они нагружали вагоны кирпичом, и носы и щеки под глазами у них были покрыты красной кирпичной пылью. Они пели. Впереди всех шла Липа и пела тонким голосом, и заливалась, глядя вверх на небо, точно торжествуя и восхищаясь, что день, слава богу, кончился и можно отдохнуть. В толпе была ее мать, поденщица Прасковья, которая шла с узелком в руке и, как всегда, тяжело дышала.
– Здравствуй, Макарыч! – сказала Липа, увидев Костыля. – Здравствуй, голубчик!
– Здравствуй, Липынька! – обрадовался Костыль. – Бабочки, девочки, полюбите богатого плотника! Хо-хо! Деточки мои, деточки (Костыль всхлипнул). Топорики мои любезные.
Костыль и Яков прошли дальше, и было слышно, как они разговаривали. Вот после них встретился толпе старик Цыбукин, и стало вдруг тихо-тихо. Липа и Прасковья немножко отстали, и, когда старик поравнялся с ними, Липа поклонилась низко и сказала:
– Здравствуйте, Григорий Петрович!
И мать тоже поклонилась. Старик остановился и, ничего не говоря, смотрел на обеих; губы у него дрожали и глаза были полны слез. Липа достала из узелка у матери кусок пирога с кашей и подала ему. Он взял и стал есть.
Солнце уже совсем зашло; блеск его погас и вверху на дороге. Становилось темно и прохладно. Липа и Прасковья пошли дальше и долго потом крестились.