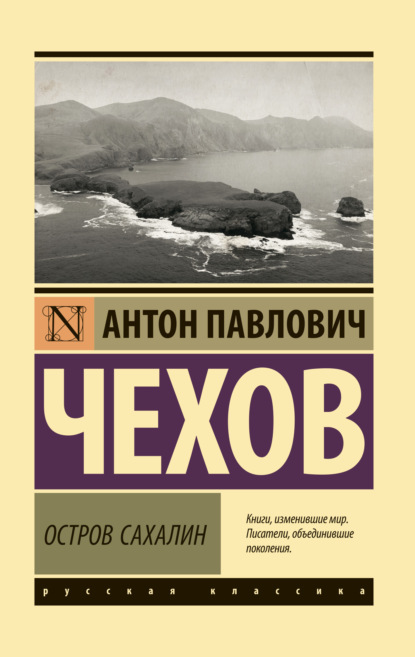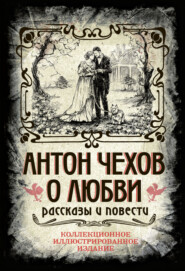По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Остров Сахалин
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Есть камеры, где сидят по двое и по трое, есть одиночные. Тут встречается немало интересных людей.
Из сидящих в одиночных камерах особенно обращает на себя внимание известная Софья Блювштейн – Золотая Ручка, осужденная за побег из Сибири в каторжные работы на три года. Это маленькая, худенькая, уже седеющая женщина с помятым, старушечьим лицом. На руках у нее кандалы; на нарах одна только шубейка из серой овчины, которая служит ей и теплою одеждой и постелью. Она ходит по своей камере из угла в угол, и кажется, что она все время нюхает воздух, как мышь в мышеловке, и выражение лица у нее мышиное. Глядя на нее, не верится, что еще недавно она была красива до такой степени, что очаровывала своих тюремщиков, как, например, в Смоленске, где надзиратель помог ей бежать и сам бежал вместе с нею. На Сахалине она в первое время, как и все присылаемые сюда женщины, жила вне тюрьмы, на вольной квартире; она пробовала бежать и нарядилась для этого солдатом, но была задержана. Пока она находилась на воле, в Александровском посту было совершено несколько преступлений: убили лавочника Никитина, украли у поселенца еврея Юровского 56 тысяч. Во всех этих преступлениях Золотая Ручка подозревается и обвиняется как прямая участница или пособница. Местная следственная власть запутала ее и самое себя такою густою проволокой всяких несообразностей и ошибок, что из дела ее решительно ничего нельзя понять. Как бы то ни было, 56 тысяч еще не найдены и служат пока сюжетом для самых разнообразных фантастических рассказов.
О кухне, где при мне готовился обед для 900 человек, о провизии и о том, как едят арестанты, я буду говорить в особой главе. Теперь же скажу несколько слов об отхожем месте. Как известно, это удобство у громадного большинства русских людей находится в полном презрении. В деревнях отхожих мест совсем нет. В монастырях, на ярмарках, в постоялых дворах и на всякого рода промыслах, где еще не установлен санитарный надзор, они отвратительны в высшей степени. Презрение к отхожему месту русский человек приносит с собой и в Сибирь. Из истории каторги видно, что отхожие места всюду в тюрьмах служили источником удушливого смрада и заразы и что население тюрем и администрация легко мирились с этим. В 1872 г. на Каре, как писал г. Власов в своем отчете, при одной из казарм совсем не было отхожего места, и преступники выводились для естественной надобности на площадь, и это делалось не по желанию каждого из них, а в то время, когда собиралось несколько человек. И таких примеров я мог бы привести сотню. В Александровской тюрьме отхожее место, обыкновенная выгребная яма, помещается в тюремном дворе в отдельной пристройке между казармами. Видно, что при устройстве его прежде всего старались, чтоб оно обошлось возможно дешевле, но все-таки сравнительно с прошлым замечается значительный прогресс. По крайней мере оно не возбуждает отвращения. Помещение холодное и вентилируется деревянными трубами. Стойчаки устроены вдоль стен; на них нельзя стоять, а можно только сидеть, и это главным образом спасает здесь отхожее место от грязи и сырости. Дурной запах есть, но незначительный, маскируемый обычными снадобьями, вроде дегтя и карболки. Отперто отхожее место не только днем, но и ночью, и эта простая мера делает ненужными параши; последние ставятся теперь только в кандальной.
Около тюрьмы есть колодец, и по нему можно судить о высоте почвенной воды. Вследствие особого строения здешней почвы почвенная вода даже на кладбище, которое расположено на горе у моря, стоит так высоко, что я в сухую погоду видел могилы, наполовину заполненные водою. Почва около тюрьмы и во всем посту дренирована канавами, но недостаточно глубокими, и от сырости тюрьма совсем не обеспечена.
В хорошую теплую погоду, которая здесь бывает не часто, тюрьма вентилируется превосходно: окна и двери открываются настежь, и арестанты большую часть дня проводят на дворе или далеко вне тюрьмы. Зимою же и в дурную погоду, то есть в среднем почти 10 месяцев в году, приходится довольствоваться только форточками и печами. Лиственничный и еловый лес, из которого сделаны тюрьма и ее фундамент, представляет хорошую естественную вентиляцию, но ненадежную; вследствие большой влажности сахалинского воздуха и изобилия дождей, а также испарений, идущих изнутри, в порах дерева скопляется вода, которая зимою замерзает. Тюрьма вентилируется слабо, а между тем на каждого ее обитателя приходится не много воздуха. У меня в дневнике записано: «Казарма № 9. Кубического содержания воздуха 187 саж. Помещается каторжных 65». Это в летнее время, когда ночует в тюрьме только половина всех каторжных. А вот цифры из медицинского отчета за 1888 г.: «Кубическая вместимость арестантских помещений в Александровской тюрьме 970 саж.; числилось арестантов: наибольшее 1950, наименьшее 1623, среднее годовое 1785; помещалось на ночлег 740; приходилось на одного человека воздуха 1,31 саж.». Наименьшее скопление каторжных в тюрьме бывает в летние месяцы, когда они командируются в округ на дорожные и полевые работы, и наибольшее – осенью, когда они возвращаются с работ и «Доброволец» привозит новую партию в 400–500 человек, которые живут в Александровской тюрьме впредь до распределения их по остальным тюрьмам. Значит, меньше всего воздуха приходится на каждого арестанта именно в то время, когда вентиляция бывает наименее действительна.
С работ, производимых чаще в ненастную погоду, каторжный возвращается в тюрьму на ночлег в промокшем платье и в грязной обуви; просушиться ему негде; часть одежды развешивает он около нар, другую, не дав ей просохнуть, подстилает под себя вместо постели. Тулуп его издает запах овчины, обувь пахнет кожей и дегтем. Его белье, пропитанное насквозь кожными отделениями, не просушенное и давно не мытое, перемешанное со старыми мешками и гниющими обносками, его портянки с удушливым запахом пота, сам он, давно не бывший в бане, полный вшей, курящий дешевый табак, постоянно страдающий метеоризмом; его хлеб, мясо, соленая рыба, которую он часто вялит тут же в тюрьме, крошки, кусочки, косточки, остатки щей в котелке; клопы, которых он давит пальцами тут же на нарах, – все это делает казарменный воздух вонючим, промозглым, кислым: он насыщается водяными парами до крайней степени, так что во время сильных морозов окна к утру покрываются изнутри слоем льда и в казарме становится темно; сероводород, аммиачные и всякие другие соединения мешаются в воздухе с водяными парами, и происходит то самое, от чего, по словам надзирателей, «душу воротит».
При системе общих камер соблюдение чистоты в тюрьме невозможно, и гигиена никогда не выйдет здесь из той тесной рамки, какую ограничили для нее сахалинский климат и рабочая обстановка каторжного, и какими бы благими намерениями ни была проникнута администрация, она будет бессильна и никогда не избавится от нареканий. Надо или признать общие камеры уже отжившими и заменить их жилищами иного типа, что уже отчасти и делается, так как многие каторжные живут не в тюрьме, а в избах, или же мириться с нечистотой как с неизбежным, необходимым злом, и измерения испорченного воздуха кубическими саженями предоставить тем, кто в гигиене видит одну только пустую формальность.
В пользу системы общих камер, я думаю, едва ли можно сказать что-нибудь хорошее. Люди, живущие в тюремной общей камере, – это не община, не артель, налагающая на своих членов обязанности, а шайка, освобождающая их от всяких обязанностей по отношению к месту, соседу и предмету. Приказывать каторжному, чтобы он не приносил на ногах грязи и навоза, не плевал бы на пол и не разводил клопов – дело невозможное. Если в камере вонь или нет никому житья от воровства, или поют грязные песни, то виноваты в этом все, то есть никто. Я спрашиваю каторжного, бывшего почетного гражданина: «Почему вы так неопрятны?» Он мне отвечает: «Потому что моя опрятность была бы здесь бесполезна». И в самом деле, какую цену может иметь для каторжного собственная его чистоплотность, если завтра приведут новую партию и положат с ним бок о бок соседа, от которого ползут во все стороны насекомые и идет удушливый запах?
Общая камера не дает преступнику одиночества, необходимого ему хотя бы для молитвы, для размышлений и того углубления в самого себя, которое считают для него обязательным все сторонники исправительных целей. Свирепая картежная игра с разрешения подкупленных надзирателей, ругань, смех, болтовня, хлопанье дверями, а в кандальной звон оков, продолжающиеся всю ночь, мешают утомленному рабочему спать, раздражают его, что, конечно, не остается без дурного влияния на его питание и психику. Стадная сарайная жизнь с ее грубыми развлечениями, с неизбежным воздействием дурных на хороших, как это давно уже признано, действует на нравственность преступника самым растлевающим образом. Она отучает его мало-помалу от домовитости, то есть того самого качества, которое нужно беречь в каторжном больше всего, так как по выходе из тюрьмы он становится самостоятельным членом колонии, где с первого же дня требуют от него, на основании закона и под угрозой наказания, чтобы он был хорошим хозяином и добрым семьянином.
В общих камерах приходится терпеть и оправдывать такие безобразные явления, как ябедничество, наушничество, самосуд, кулачество. Последнее находит здесь выражение в так называемых майданах, перешедших сюда из Сибири. Арестант, имеющий и любящий деньги и пришедший из-за них на каторгу, кулак, скопидом и мошенник, берет на откуп у товарищей-каторжных право монопольной торговли в казарме, и если место бойкое и многолюдное, то арендная плата, поступающая в пользу арестантов, может простираться даже до нескольких сотен рублей в год. Майданщик, то есть хозяин майдана, официально называется парашечником, так как берет на себя обязанность выносить из камер параши, если они есть, и следить за чистотою. На наре его обыкновенно стоит сундучок аршина в полтора, зеленый или коричневый, около него и под ним разложены кусочки сахару, белые хлебцы, величиною с кулак, папиросы, бутылки с молоком и еще какие-то товары, завернутые в бумажки и грязные тряпочки[16 - Пачка из 9-10 папирос стоит 1 коп., белая булочка 2 коп., бутылка молока 8-10, кусочек сахару 2 коп. Продажа производится на наличные, в долг и в обмен на вещи. Майдан продает также водку, карты, свечные огарки для игры в ночное время – это негласно. Карты дает и напрокат.].
Под смиренными кусочками сахару и булками прячется зло, которое распространяет свое влияние далеко за пределы тюрьмы. Майдан – это игорный дом, маленькое Монте-Карло, развивающее в арестанте заразительную страсть к штоссу и другим азартным играм. Около майдана и карт непременно ютится всегда готовое к услугам ростовщичество, жестокое и неумолимое. Тюремные ростовщики берут по 10 % в день и даже за один час; не выкупленный в течение дня заклад поступает в собственность ростовщика. Отбыв свой срок, майданщики и ростовщики выходят на поселение, где не оставляют своей прибыльной деятельности, и поэтому нечего удивляться, что на Сахалине есть поселенцы, у которых можно украсть 56 тысяч.
Летом 1890 г., в бытность мою на Сахалине, при Александровской тюрьме числилось более двух тысяч каторжных, но в тюрьме жило только около 900. Вот цифры, взятые наудачу: в начале лета, 3 мая 1890 г., довольствовалось из котла и ночевало в тюрьме 1279, в конце лета, 29 сентября, 675 человек. Что касается каторжных работ, производимых в самом Александровске, то здесь приходится наблюдать, главным образом, строительные и всякие хозяйственные работы: возведение новых построек, ремонт старых, содержание на городской манер улиц, площадей и проч. Самыми тяжкими считаются плотницкие работы. Арестант, бывший на родине плотником, несет здесь настоящую каторгу, и в этом отношении он гораздо несчастливее маляра или кровельщика. Вся тягость работы не в самой постройке, а в том, что каждое бревно, идущее в дело, каторжный должен притащить из леса, а рубка в настоящее время производится за 8 верст от поста. Летом люди, запряженные в бревно в пол-аршина и толще, а в длину в несколько сажен, производят тяжелое впечатление; выражение их лиц страдальческое, особенно если они, как это я часто наблюдал, уроженцы Кавказа. Зимою же, говорят, они отмораживают себе руки и ноги и часто даже замерзают, не дотащив бревна до поста. Для администрации плотницкие работы представляются тоже нелегкими, потому что людей, способных на систематический тяжкий труд, на Сахалине вообще мало и недостаток работников – явление здесь обычное, хотя каторжные считаются тысячами. Ген. Кононович говорил мне, что затевать здесь новые постройки и строиться очень трудно – людей нет; если достаточно плотников, то некому таскать бревна; если людей ушлют за бревнами, то не хватает плотников. К нелегким работам относятся здесь также обязанности дровотасков, которые каждый день рубят дрова, заготовляют их и под утро, когда еще все спят, топят печи. Чтобы судить о степени напряженности труда, об его тяжести, нужно брать во внимание не одну только затрачиваемую на него мышечную силу, но также условия места и особенности труда, зависящие от этих условий. Сильные морозы зимою и сырость в течение всего года в Александровске ставят чернорабочего в положение иной раз едва выносимое, какого он при той же работе, например при обыкновенной рубке дров, не испытал бы в России. Закон ограничивает труд каторжного «урочным положением», приближая его к обыкновенному крестьянскому и фабричному труду[17 - «Урочное положение для строительных работ, высочайше утвержденное 17 апреля 1869 г.», Петербург, 1887 г. По этому положению при определении на разного рода работы принимаются в основание: физические силы рабочего и степень навыка к работе. Положение определяет также число рабочих часов в день, сообразно временам года и полосам России. Сахалин отнесен к средней полосе России. Максимум рабочих часов – 12
/
в сутки – приходится на май, июнь и июль, а минимум – 7 час. – на декабрь и январь.]; он же предоставляет разные облегчения каторжным разряда исправляющихся; но практика поневоле не всегда сообразуется с законом именно в силу местных условий и особенностей труда. Нельзя же ведь определить, сколько часов каторжный должен тащить бревно во время метели, нельзя освободить его от ночных работ, когда последние необходимы, нельзя ведь по закону освободить исправляющегося от работы в праздник, если он, например, работает в угольной яме вместе с испытуемым, так как тогда бы пришлось освободить обоих и прекратить работу. Часто от того, что работами заведуют люди некомпетентные, неспособные и неловкие, затрачивается на работы больше напряжения, чем бы следовало. Например, нагрузка и выгрузка пароходов, не требующие в России от рабочего исключительного напряжения сил, в Александровске часто представляются для людей истинным мучением; особенной команды, подготовленной и выученной специально для работ на море, нет; каждый раз берутся все новые люди, и оттого случается нередко наблюдать во время волнения страшный беспорядок; на пароходе бранятся, выходят из себя, а внизу, на баржах, бьющихся о пароход, стоят и лежат люди с зелеными, искривленными лицами, страдающие от морской болезни, а около барж плавают утерянные весла. Благодаря этому работа затягивается, время пропадает даром и люди терпят ненужные мучения. Однажды во время выгрузки парохода я слышал, как смотритель тюрьмы сказал: «У меня люди целый день не ели».
Немало каторжного труда затрачивается на удовлетворение потребностей тюрьмы. В тюрьме каждый день работают кашевары, хлебопеки, портные, сапожники, водоносы, поломойки, дневальные, скотники и т. п. Каторжным трудом пользуются также военное и телеграфное ведомства, землемер; около 50 человек прикомандировано к тюремному лазарету, неизвестно в качестве кого и для чего, и не сочтешь тех, которые находятся в услужении у гг. чиновников. Каждый чиновник, даже состоящий в чине канцелярского служителя, насколько я мог убедиться, может брать себе неограниченное количество прислуги. Доктор, у которого я квартировал, живший сам-друг с сыном, имел повара, дворника, кухарку и горничную. Для младшего тюремного врача это очень роскошно. У одного смотрителя тюрьмы было 8 человек штатной прислуги: швея, сапожник, горничная, лакей, он же рассыльный, нянька, прачка, повар, поломойка. Вопрос о прислуге на Сахалине – обидный и грустный вопрос, как, вероятно, везде на каторге, и не новый. В своем «Кратком очерке неустройств, существующих на каторге» Власов писал, что в 1871 г., когда он прибыл на остров, его «прежде всего поразило то обстоятельство, что каторжные с разрешения бывшего генерал-губернатора составляют прислугу начальника и офицеров». Женщины, по его словам, раздавались в услуги лицам управления, не исключая и холостых надзирателей. В 1872 г. генерал-губернатор Восточной Сибири Синельников запретил отдачу преступников в услужение. Но это запрещение, имеющее силу закона и до настоящего времени, обходится самым бесцеремонным образом. Коллежский регистратор записывает на себя полдюжины прислуги, и когда отправляется на пикник, то посылает вперед с провизией десяток каторжных. Начальники острова гг. Гинце и Кононович боролись с этим злом, но недостаточно энергично; по крайней мере я нашел только три приказа, относящихся к вопросу о прислуге, и таких, которые человек заинтересованный мог широко толковать в свою пользу. Генерал Гинце, как бы в отмену генерал-губернаторского предписания, разрешил в 1885 г. (приказ № 95) чиновникам брать себе в прислуги ссыльнокаторжных женщин с платою по два рубля в месяц, и чтобы деньги были обращаемы в казну. Генерал Кононович в 1888 г. отменил приказ своего предшественника, определив: «ссыльнокаторжных, как мужчин, так и женщин, в прислугу к чиновникам не назначать и платы за женщин никакой не взыскивать. А так как казенные здания и службы при них не могут оставаться без надзора и без удовлетворения, то к каждому таковому зданию разрешаю назначать потребное число мужчин и женщин, показывая их по наряду по этим назначениям как сторожей, дровотасков, поломоек и проч., смотря по потребности» (приказ № 276). Но так как казенные здания и службы при них в громадном большинстве составляют не что иное, как квартиры чиновников, то этот приказ понимается как разрешение иметь каторжную прислугу, и притом бесплатную. Во всяком случае, в 1890 г., когда я был на Сахалине, все чиновники, даже не имеющие никакого отношения к тюремному ведомству (например, начальник почтово-телеграфной конторы), пользовались каторжными для своего домашнего обихода в самых широких размерах, причем жалованья этой прислуге они не платили, и кормилась она на счет казны.
Отдача каторжных в услужение частным лицам находится в полном противоречии со взглядом законодателя на наказание: это – не каторга, а крепостничество, так как каторжный служит не государству, а лицу, которому нет никакого дела до исправительных целей или до идеи равномерности наказания; он – не ссыльнокаторжный, а раб, зависящий от воли барина и его семьи, угождающий их прихотям, участвующий в кухонных дрязгах. Становясь поселенцем, он является в колонии повторением нашего дворового человека, умеющего чистить сапоги и жарить котлеты, но неспособного к земледельческому труду, а потому и голодного, брошенного на произвол судьбы. Отдача же в услужение каторжных женщин, кроме всего этого, имеет еще свои специальные неудобства. Не говоря уже о том, что в среде подневольных фавориты и содержанки вносят всегда струю чего-то подлого, в высшей степени унизительного для человеческого достоинства, они, в частности, совершенно коверкают дисциплину. Мне один из священников рассказывал, что бывали случаи на Сахалине, когда женщина свободного состояния или солдат, будучи в прислугах, должны были при известных обстоятельствах убирать и выносить после каторжной[18 - Власов в своем отчете пишет: «Такое странное отношение лиц: офицера, каторжной в качестве его любовницы и солдата в роли ее кучера, – не может не вызвать удивления и сожаления». Говорят, что это зло допускается только ввиду невозможности иметь прислугу из лиц свободного состояния. Но это неправда. Во-первых, возможно ограничить количество прислуги; ведь находят же возможным офицеры иметь только по одному денщику. Во-вторых, чиновники здесь, на Сахалине, получают хорошее жалованье и могут нанимать себе прислугу из среды поселенцев, крестьян из ссыльных и женщин свободного состояния, которые в большинстве случаев нуждаются и потому не отказались бы от заработка. Мысль эта приходила, вероятно, и начальству, так как есть приказ, в котором одной поселке, как неспособной к земледельческому труду, разрешалось «приобретать средства к существованию наймом в прислуги у гг. чиновников» (приказ № 44, 1889 г.).].
То, что в Александровске с важностью зовется «заводскою промышленностью», с внешней стороны обставлено красиво и шумно, но не имеет пока серьезного значения. В литейной мастерской, которою заведует механик-самоучка, я видел колокола, вагонные и тачечные колеса, ручную мельницу, машинку для ажурной работы, краны, приборы для печей и т. п., но все это производит игрушечное впечатление. Вещи прекрасны, но ведь сбыта нет никакого, а для местных надобностей было бы выгоднее приобретать их на материке или в Одессе, чем заводить свои локомобили и целый штат платных рабочих. Конечно, не было бы жаль никаких затрат, если бы мастерские здесь были школами, где каторжные учились бы мастерствам; на самом же деле, в литейной и слесарной работают не каторжные, а опытные мастера-поселенцы, состоящие на положении младших надзирателей, с жалованьем по 18 руб. в месяц. Здесь слишком заметно увлечение вещью; гремят колеса и молот, и свистят локомобили только во имя качества вещи и сбыта ее; коммерческие и художественные соображения не имеют здесь никакого отношения к наказанию, а между тем на Сахалине, как и везде на каторге, всякое предприятие должно иметь своею ближайшею и отдаленною целью только одно – исправление преступника, и здешние мастерские должны стремиться к тому, чтобы сбывать на материк прежде всего не печные дверцы и не краны, а полезных людей и хорошо подготовленных мастеров.
Паровая мельница, лесопильня и кузница содержатся в отличном порядке. Люди работают весело потому, вероятно, что сознают производительность труда. Но и здесь работают главным образом специалисты, которые уже на родине были мельниками, кузнецами и проч., а не те, которые, живя на родине, не умели работать, ничего не знали и теперь больше чем кто-либо нуждаются в мельницах и кузницах, где бы их обучили и поставили на ноги[19 - Мельница и слесарная находятся в одном здании и получают приводы от двух локомобилей. В мельнице четыре постава с размолом в 1500 п. в день. В лесопильне работает старый локомобиль, привезенный сюда еще кн. Шаховским; его топят опилками. В кузнице производится работа день и ночь, в две смены, работает шесть горнов. Всего занято в мастерской 105 человек. Каторжные в Александровске занимаются также добычей угля, но это дело едва ли будет иметь когда-нибудь успех. Уголь из местных копей гораздо хуже дуйского: он грязнее на вид и смешан со сланцем. Обходится он здесь не дешево, так как в шахтах работает постоянный штат рабочих под наблюдением особого горного инженера. Существование местных копей не вызывается необходимостью, так как до Дуэ недалеко и оттуда во всякое время можно получать превосходный уголь. Открыты они, впрочем, с доброю целью – дать в будущем заработок поселенцам.].
VI
РАССКАЗ ЕГОРА
Доктор, у которого я квартировал, уехал на материк вскоре после увольнения от службы, и я поселился у одного молодого чиновника, очень хорошего человека. У него была только одна прислуга, старуха-хохлушка, каторжная, и изредка, этак раз в день, наведывался к нему каторжный Егор, дровотаск, который прислугою его не считался, но «из уважения» приносил дров, убирал помои на кухне и вообще исполнял обязанности, которые были не под силу старушке. Бывало, сидишь и читаешь или пишешь что-нибудь, и вдруг слышишь какой-то шорох и пыхтенье, и что-то тяжелое ворочается под столом около ног; взглянешь – это Егор, босой, собирает под столом бумажки или вытирает пыль. Ему лет под сорок, и представляет он из себя человека неуклюжего, неповоротливого, как говорится, увальня, с простодушным, на первый взгляд глуповатым лицом и с широким, как у налима, ртом. Он рыжий, бородка у него жидкая, глаза маленькие. На вопрос он сразу не отвечает, а сначала искоса посмотрит и спросит: «Чаво?» или «Кого ты?» Величает вашим высокоблагородием, но говорит ты. Он не может сидеть без работы ни одной минуты и находит ее всюду, куда бы ни пришел. Говорит с вами, а сам ищет глазами, нет ли чего убрать или починить. Он спит два-три часа в сутки, потому что ему некогда спать. В праздники он обыкновенно стоит где-нибудь на перекрестке, в пиджаке поверх красной рубахи, выпятив вперед живот и расставив ноги. Это называется «гулять».
Здесь, на каторге, он сам построил себе избу, делает ведра, столы, неуклюжие шкапы. Умеет делать всякую мебель, но только «про себя», то есть для собственной надобности. Сам никогда не дрался и бит не бывал; только когда-то в детстве отец высек его за то, что горох стерег и петуха впустил.
Однажды у меня с ним происходил такой разговор:
– За что тебя сюда прислали? – спросил я.
– Чаво ты говоришь, ваше высокоблагородие?
– За что тебя прислали на Сахалин?
– За убийство.
– Ты расскажи мне с самого начала, как было дело.
Егор стал у косяка, заложил назад руки и начал:
– Ходили мы к барину Владимиру Михайлычу, рядились о дровах, о пилке и поставке на станцию. Хорошо. Порядились и пошли домой. Этак не далеко отошедши от села, послал меня народ в контору с условием – засвидетельствовать. Я был на лошади. По дороге к конторе Андрюха воротил меня: был большой разлив, нельзя было проехать. «Завтра, говорит, я поеду в контору об земле своей рендовой и это условие засвидетельствую». Ладно. Отсюда пошли мы вместе: я на лошади, а кумпания пешком. Дошли мы до Парахина. Мужики зашли закуривать к кабаку, мы с Андрюхой сзади остались на тротуаре около трактира. Он и говорит: «Нет ли у тебя, братко, пятачка? Выпить, говорит, хотно». А я ему: «Да ты, брат, говорю, такой человек: зайдешь выпить за пятачок, да тут и запьянничаешь». А он говорит: «Нет, не буду, выпью, да и пойду домой». Подошли к мужикам, сговорили на четверть, собрали на четверть, в кабак зашли, четверть водки купили. Сели за стол пить.
– Ты покороче, – замечаю я.
– Постой, не перебивай, ваше высокоблагородие. Роспили мы эту водку, вот он, Андрюха то есть, еще взял перцовки сороковку. По стакану налил себе и мне. Мы по стакану вместе с ним и выпили. Ну, вот, тут пошли весь народ домой из кабака, и мы с ним сзади пошли тоже. Меня переломило верхом-то ехать, я слез и сел тут на бережку. Я песни пел да шутил. Разговору не было худого. Потом этого встали и пошли.
– Ты расскажи мне про убийство, – перебиваю я.
– Постой. Дома я лег и спал до утрия, пока не разбудили: «Ступай, кто из вас побил Андрея?» Тут уж и Андрея привезли, и урядник приехал. Урядник стал допрашивать нас всех, никто мы не признаемся к этому делу. А Андрей еще живой был и говорит: «Ты, Сергуха, ударил меня стягом, а больше я ничего не помню». Сергуха не признается. Мы все так и думали, что Сергуха, и начали глядеть за ним, чтобы не сделал себе чего. Через сутки Андрей помер. Сергея и подучи там свои, сестра да тесть: «Ты, Сергей, не отпирайся, тебе все равно. Признавайся да подтягивай, кого ближе захватил. Тебе влегота будет». Как только что помер Андрей, мы весь народ и собрались к старосте и Сергея оповестили. Сергея допрашиваем, а он не признается. Потом пустили его к себе ночевать в свой дом. Некоторые его здесь стерегли, не сделал бы себе чего. У него тут ружьишко было. Опасно. Поутру хватились – его нет, тут соскорили у него обыск делать, и по деревне искали, и в поле бегали, искали его. Потом уж пришли из стану и объявили, что Сергей уже там. Тут нас начали забирать. А Сергей, знаешь, прямо к становому да к уряднику, на коленки стал и говорит на нас, что Ефремовы дети уже года три нанимали побить Андрюху. «Дорогой, говорит, шли мы втроем – Иван, да Егор, да я – и сговорились вместе побить. Я, говорит, корчевочкой ударил Андрюху, а Иван да Егор схватились бить его, а я испужался да назад, говорит, побежал, за задними мужиками». Потом нас – Ивана, Киршу, меня и Сергея – забрали и в тюрьму в город.
– А кто такие Иван и Кирша?
– Братья мои родные. В тюрьму пришел купец Петр Михайлыч и взял нас на поруки. И были на поруках у него до Покрова. Жили мы хорошо, сохранно. На другой день Покрова нас судили в городе. У Кирши были свидетели – задние мужики выправили, а меня так, брат, и влопало. Я на суде говорил то, что тебе вот сказываю, как есть, а суд не верит: «Тут все так говорят и глазы крестят, а все неправда». Ну, осудили, да в острог. В остроге жили под замком, но только был я парашечником, подметал камеры и обед подносил. Давали мне за это каждый по пайку хлеба в месяц. Фунта три будет с человека. Как заслышали выход, телеграмму домой послали. Перед Николой было дело. Женка и брат Кирша приехали нас проведать и кое-чего тут привезли из платья, да и еще кое-чего… Женка плакала-выла, да ничего не поделаешь. Как поехала, я ей туда домой два пайка хлеба дал в гостинцы. Поплакали и поклон послали детям и всем крещеным. Дорогой мы были скованы нарушнями. По два человека шли. Я шел с Иваном. В Новгороде с нас карточки снимали, тут заковали нас и головы брили. Потом в Москву погнали. В Москве, когда сидели, на помилование прошение посылали. Как ехал в Одессу, не помню. Хорошо ехал. В Одессе нас выспрашивали в докторской, скидывали одежу всю, оглядывали. Потом собрали нас и погнали на пароход. Тут казаки и солдаты нас рядом вели по ступенькам и посадили нас в нутро. Сидим на нарах, да и все. Всяк на свое место. На верхней наре пять человек нас сидело. Сперва мы не понимали, а потом говорят: «Поехали, поехали!» Ехали, ехали, а потом начало качать. Жар такой, голые стояли народ. Кто блевал, а другой – ничего. Тут, конечно, больше лежали. А шторм горазд был. Во все стороны кидало. Ехали, ехали, потом и наехали. Нас так и толконуло. День туманливый. Сталось темно. Как толконуло, и установилось, качается, знашь, на скалах; думали, что рыбина это качает под низом, ворочает пароход[20 - Речь идет о крушении «Костромы» у западного берега Сахалина в 1887 г.]. Наперед дергали, дергали – не сдернуть, да назад зачали дергать. Назад стали дергать, посередке и проломило снизу. Начали парусом дыру затягивать; затягивали, затягивали – ничего способу нет. Вода накопилась до самого полу, где народ сидит, и стала под народ выходить вода на пол. Народ просит: «Не дайте погибнуть, ваше благородие!» И он сперва: «Не ломитесь, не проситесь, не дам погибнуть ничего». Потом стало накопляться под нижние нары. Крещеные стали проситься да ломиться. Барин и говорит: «Ну, ребята, выпущу вас, только чтоб не бунтовать, а нет – всех перестреляю». Потом выпустил. Сделали богомоление, чтобы Господь усмирил, не погибнуть бы. Молились на коленках. После богомоления выдавали нам галеты, сахар, и море засмирилось. На другой день стали вывозить народ на баржах на берег.
На берегу было богомоление. Потом нас перегрузили на другое судно, турецкое[21 - Пароход Добровольного флота «Владивосток».], и привезли сюда, в Александровск. Сняли нас засветло на пристань, да тут долго нас продержали, и отправились мы с пристани уже в потемушках. Крещеные так плетнем и шли, а тут еще навалилась куриная слепота. Друг за дружку держатся; кто видит, а кто и нет – вот и цеплялись. Я за собой десяток крещеных вел. Пригнали в тюрьму на двор и стали разбирать по казармам, кого куда. Ужинали перед сном, что было у кого, а утром нам начали выдавать, что следует. Дня два отдыхали, на третий в баню, а на четвертый работать погнали. Перво-наперво копали канавы под здание, где лазарет теперь. Корчевали, обирали, копали и все прочее – этак неделю или две, а может, и с месяц. Потом мы возили бревна из-под Михайловки. Таском тащили версты за три и в груды у моста сваливали. Потом на огород погнали ямы для воды копать. А как наступил сенокос, стали собирать крещеных: спрашивают, кто косить умеет, – ну, кто признавался, того и писали. Выдали нам на всю артель хлеб, крупу, мясо и погнали с надзирателем на сенокос в Армуданы. Жил я ничего, Бог здоровья давал, и косил я хорошо. Других надзиратель колотил, а я дурного слова не слыхивал. Ругается только народ, зачем бойко идешь, – ну, да ничего. В свободное время или когда дождь, я плел себе ступни. Люди спать с работы, а я сижу да плету. Ступни продавал, две порции говядины за ступни, а это четыре копейки стоит. Сенокос выставивши, пошли домой. Домой пришли, сняли нас в тюрьму. Потом взяли меня к поселенцу Сашке на Михайловку в работники. У Сашки я делал все по крестьянской работе: жал, убирал, молотил, картошку копал, а Сашка за меня в козну бревна возил. Ели все свое, что получали из козны. Отработал я два месяца и четыре дня. Обещал Сашка денег, да не дал ничего. Только и дал, что пуд картошки. Привез меня Сашка в тюрьму и сдал. Выдали мне топор и веревку – дрова таскать. Семь печей отоплял. Я в юрте жил, за камарщика воду носил и подметал. У татарина-магзы[22 - Китаец-манза.] майдан сторожил. Как приду с работы, мне он свой майдан уверял, я продавал, а он мне за это 15 копеек в сутки платил. Весной, когда дни стали подолже, я стал плесть лапти. Брал по десять копеек. А летом рекой дрова гонял. Накопил я их кучу большую и потом этого продал жиду-банщику. Накопил я также лесу 60 дерев и продал по 15 копеек. Вот и живу помаленьку, как Бог дает. А только, ваше высокоблагородие, разговаривать мне с тобой некогда, надо по воду идти.
– В поселенцы скоро выйдешь?
– Лет через пять.
– Скучаешь по дому?
– Нет. Одно вот только – детей жалко. Глупы.
– Скажи, Егор, о чем ты думал, когда тебя в Одессе на пароход вели?
– Бога молил.
– О чем?
– Чтобы детям ума-разума послал.
– Отчего ты жену и детей не взял с собой на Сахалин?
– Потому что им и дома хорошо.
VII
Маяк. – Корсаковское. – Коллекция д-ра П. И. Супруненко. – Метеорологическая станция. – Климат Александровского округа. – Ново-Михайловка. – Потемкин. – Экс-палач Терский. – Красный Яр. – Бутаково
Прогулки по Александровску и его окрестностям с почтовым чиновником, автором «Сахалино», оставили во мне приятное воспоминание. Чаще всего мы ходили к маяку, который стоит высоко над долиной, на мысе Жонкиер. Днем маяк, если посмотреть на него снизу, – скромный белый домик с мачтой и с фонарем, ночью же он ярко светит в потемках, и кажется тогда, что каторга глядит на мир своим красным глазом. Дорога к домику поднимается круто, оборачиваясь спиралью вокруг горы, мимо старых лиственниц и елей. Чем выше поднимаешься, тем свободнее дышится; море раскидывается перед глазами, приходят мало-помалу мысли, ничего общего не имеющие ни с тюрьмой, ни с каторгой, ни с ссыльною колонией, и тут только сознаешь, как скучно и трудно живется внизу. Каторжные и поселенцы изо дня в день несут наказание, а свободные от утра до вечера говорят только о том, кого драли, кто бежал, кого поймали и будут драть; и странно, что к этим разговорам и интересам сам привыкаешь в одну неделю и, проснувшись утром, принимаешься прежде всего за печатные генеральские приказы – местную ежедневную газету, и потом целый день слушаешь и говоришь о том, кто бежал, кого подстрелили и т. п. На горе же, в виду моря и красивых оврагов, все это становится донельзя пошло и грубо, как оно и есть на самом деле.
Из сидящих в одиночных камерах особенно обращает на себя внимание известная Софья Блювштейн – Золотая Ручка, осужденная за побег из Сибири в каторжные работы на три года. Это маленькая, худенькая, уже седеющая женщина с помятым, старушечьим лицом. На руках у нее кандалы; на нарах одна только шубейка из серой овчины, которая служит ей и теплою одеждой и постелью. Она ходит по своей камере из угла в угол, и кажется, что она все время нюхает воздух, как мышь в мышеловке, и выражение лица у нее мышиное. Глядя на нее, не верится, что еще недавно она была красива до такой степени, что очаровывала своих тюремщиков, как, например, в Смоленске, где надзиратель помог ей бежать и сам бежал вместе с нею. На Сахалине она в первое время, как и все присылаемые сюда женщины, жила вне тюрьмы, на вольной квартире; она пробовала бежать и нарядилась для этого солдатом, но была задержана. Пока она находилась на воле, в Александровском посту было совершено несколько преступлений: убили лавочника Никитина, украли у поселенца еврея Юровского 56 тысяч. Во всех этих преступлениях Золотая Ручка подозревается и обвиняется как прямая участница или пособница. Местная следственная власть запутала ее и самое себя такою густою проволокой всяких несообразностей и ошибок, что из дела ее решительно ничего нельзя понять. Как бы то ни было, 56 тысяч еще не найдены и служат пока сюжетом для самых разнообразных фантастических рассказов.
О кухне, где при мне готовился обед для 900 человек, о провизии и о том, как едят арестанты, я буду говорить в особой главе. Теперь же скажу несколько слов об отхожем месте. Как известно, это удобство у громадного большинства русских людей находится в полном презрении. В деревнях отхожих мест совсем нет. В монастырях, на ярмарках, в постоялых дворах и на всякого рода промыслах, где еще не установлен санитарный надзор, они отвратительны в высшей степени. Презрение к отхожему месту русский человек приносит с собой и в Сибирь. Из истории каторги видно, что отхожие места всюду в тюрьмах служили источником удушливого смрада и заразы и что население тюрем и администрация легко мирились с этим. В 1872 г. на Каре, как писал г. Власов в своем отчете, при одной из казарм совсем не было отхожего места, и преступники выводились для естественной надобности на площадь, и это делалось не по желанию каждого из них, а в то время, когда собиралось несколько человек. И таких примеров я мог бы привести сотню. В Александровской тюрьме отхожее место, обыкновенная выгребная яма, помещается в тюремном дворе в отдельной пристройке между казармами. Видно, что при устройстве его прежде всего старались, чтоб оно обошлось возможно дешевле, но все-таки сравнительно с прошлым замечается значительный прогресс. По крайней мере оно не возбуждает отвращения. Помещение холодное и вентилируется деревянными трубами. Стойчаки устроены вдоль стен; на них нельзя стоять, а можно только сидеть, и это главным образом спасает здесь отхожее место от грязи и сырости. Дурной запах есть, но незначительный, маскируемый обычными снадобьями, вроде дегтя и карболки. Отперто отхожее место не только днем, но и ночью, и эта простая мера делает ненужными параши; последние ставятся теперь только в кандальной.
Около тюрьмы есть колодец, и по нему можно судить о высоте почвенной воды. Вследствие особого строения здешней почвы почвенная вода даже на кладбище, которое расположено на горе у моря, стоит так высоко, что я в сухую погоду видел могилы, наполовину заполненные водою. Почва около тюрьмы и во всем посту дренирована канавами, но недостаточно глубокими, и от сырости тюрьма совсем не обеспечена.
В хорошую теплую погоду, которая здесь бывает не часто, тюрьма вентилируется превосходно: окна и двери открываются настежь, и арестанты большую часть дня проводят на дворе или далеко вне тюрьмы. Зимою же и в дурную погоду, то есть в среднем почти 10 месяцев в году, приходится довольствоваться только форточками и печами. Лиственничный и еловый лес, из которого сделаны тюрьма и ее фундамент, представляет хорошую естественную вентиляцию, но ненадежную; вследствие большой влажности сахалинского воздуха и изобилия дождей, а также испарений, идущих изнутри, в порах дерева скопляется вода, которая зимою замерзает. Тюрьма вентилируется слабо, а между тем на каждого ее обитателя приходится не много воздуха. У меня в дневнике записано: «Казарма № 9. Кубического содержания воздуха 187 саж. Помещается каторжных 65». Это в летнее время, когда ночует в тюрьме только половина всех каторжных. А вот цифры из медицинского отчета за 1888 г.: «Кубическая вместимость арестантских помещений в Александровской тюрьме 970 саж.; числилось арестантов: наибольшее 1950, наименьшее 1623, среднее годовое 1785; помещалось на ночлег 740; приходилось на одного человека воздуха 1,31 саж.». Наименьшее скопление каторжных в тюрьме бывает в летние месяцы, когда они командируются в округ на дорожные и полевые работы, и наибольшее – осенью, когда они возвращаются с работ и «Доброволец» привозит новую партию в 400–500 человек, которые живут в Александровской тюрьме впредь до распределения их по остальным тюрьмам. Значит, меньше всего воздуха приходится на каждого арестанта именно в то время, когда вентиляция бывает наименее действительна.
С работ, производимых чаще в ненастную погоду, каторжный возвращается в тюрьму на ночлег в промокшем платье и в грязной обуви; просушиться ему негде; часть одежды развешивает он около нар, другую, не дав ей просохнуть, подстилает под себя вместо постели. Тулуп его издает запах овчины, обувь пахнет кожей и дегтем. Его белье, пропитанное насквозь кожными отделениями, не просушенное и давно не мытое, перемешанное со старыми мешками и гниющими обносками, его портянки с удушливым запахом пота, сам он, давно не бывший в бане, полный вшей, курящий дешевый табак, постоянно страдающий метеоризмом; его хлеб, мясо, соленая рыба, которую он часто вялит тут же в тюрьме, крошки, кусочки, косточки, остатки щей в котелке; клопы, которых он давит пальцами тут же на нарах, – все это делает казарменный воздух вонючим, промозглым, кислым: он насыщается водяными парами до крайней степени, так что во время сильных морозов окна к утру покрываются изнутри слоем льда и в казарме становится темно; сероводород, аммиачные и всякие другие соединения мешаются в воздухе с водяными парами, и происходит то самое, от чего, по словам надзирателей, «душу воротит».
При системе общих камер соблюдение чистоты в тюрьме невозможно, и гигиена никогда не выйдет здесь из той тесной рамки, какую ограничили для нее сахалинский климат и рабочая обстановка каторжного, и какими бы благими намерениями ни была проникнута администрация, она будет бессильна и никогда не избавится от нареканий. Надо или признать общие камеры уже отжившими и заменить их жилищами иного типа, что уже отчасти и делается, так как многие каторжные живут не в тюрьме, а в избах, или же мириться с нечистотой как с неизбежным, необходимым злом, и измерения испорченного воздуха кубическими саженями предоставить тем, кто в гигиене видит одну только пустую формальность.
В пользу системы общих камер, я думаю, едва ли можно сказать что-нибудь хорошее. Люди, живущие в тюремной общей камере, – это не община, не артель, налагающая на своих членов обязанности, а шайка, освобождающая их от всяких обязанностей по отношению к месту, соседу и предмету. Приказывать каторжному, чтобы он не приносил на ногах грязи и навоза, не плевал бы на пол и не разводил клопов – дело невозможное. Если в камере вонь или нет никому житья от воровства, или поют грязные песни, то виноваты в этом все, то есть никто. Я спрашиваю каторжного, бывшего почетного гражданина: «Почему вы так неопрятны?» Он мне отвечает: «Потому что моя опрятность была бы здесь бесполезна». И в самом деле, какую цену может иметь для каторжного собственная его чистоплотность, если завтра приведут новую партию и положат с ним бок о бок соседа, от которого ползут во все стороны насекомые и идет удушливый запах?
Общая камера не дает преступнику одиночества, необходимого ему хотя бы для молитвы, для размышлений и того углубления в самого себя, которое считают для него обязательным все сторонники исправительных целей. Свирепая картежная игра с разрешения подкупленных надзирателей, ругань, смех, болтовня, хлопанье дверями, а в кандальной звон оков, продолжающиеся всю ночь, мешают утомленному рабочему спать, раздражают его, что, конечно, не остается без дурного влияния на его питание и психику. Стадная сарайная жизнь с ее грубыми развлечениями, с неизбежным воздействием дурных на хороших, как это давно уже признано, действует на нравственность преступника самым растлевающим образом. Она отучает его мало-помалу от домовитости, то есть того самого качества, которое нужно беречь в каторжном больше всего, так как по выходе из тюрьмы он становится самостоятельным членом колонии, где с первого же дня требуют от него, на основании закона и под угрозой наказания, чтобы он был хорошим хозяином и добрым семьянином.
В общих камерах приходится терпеть и оправдывать такие безобразные явления, как ябедничество, наушничество, самосуд, кулачество. Последнее находит здесь выражение в так называемых майданах, перешедших сюда из Сибири. Арестант, имеющий и любящий деньги и пришедший из-за них на каторгу, кулак, скопидом и мошенник, берет на откуп у товарищей-каторжных право монопольной торговли в казарме, и если место бойкое и многолюдное, то арендная плата, поступающая в пользу арестантов, может простираться даже до нескольких сотен рублей в год. Майданщик, то есть хозяин майдана, официально называется парашечником, так как берет на себя обязанность выносить из камер параши, если они есть, и следить за чистотою. На наре его обыкновенно стоит сундучок аршина в полтора, зеленый или коричневый, около него и под ним разложены кусочки сахару, белые хлебцы, величиною с кулак, папиросы, бутылки с молоком и еще какие-то товары, завернутые в бумажки и грязные тряпочки[16 - Пачка из 9-10 папирос стоит 1 коп., белая булочка 2 коп., бутылка молока 8-10, кусочек сахару 2 коп. Продажа производится на наличные, в долг и в обмен на вещи. Майдан продает также водку, карты, свечные огарки для игры в ночное время – это негласно. Карты дает и напрокат.].
Под смиренными кусочками сахару и булками прячется зло, которое распространяет свое влияние далеко за пределы тюрьмы. Майдан – это игорный дом, маленькое Монте-Карло, развивающее в арестанте заразительную страсть к штоссу и другим азартным играм. Около майдана и карт непременно ютится всегда готовое к услугам ростовщичество, жестокое и неумолимое. Тюремные ростовщики берут по 10 % в день и даже за один час; не выкупленный в течение дня заклад поступает в собственность ростовщика. Отбыв свой срок, майданщики и ростовщики выходят на поселение, где не оставляют своей прибыльной деятельности, и поэтому нечего удивляться, что на Сахалине есть поселенцы, у которых можно украсть 56 тысяч.
Летом 1890 г., в бытность мою на Сахалине, при Александровской тюрьме числилось более двух тысяч каторжных, но в тюрьме жило только около 900. Вот цифры, взятые наудачу: в начале лета, 3 мая 1890 г., довольствовалось из котла и ночевало в тюрьме 1279, в конце лета, 29 сентября, 675 человек. Что касается каторжных работ, производимых в самом Александровске, то здесь приходится наблюдать, главным образом, строительные и всякие хозяйственные работы: возведение новых построек, ремонт старых, содержание на городской манер улиц, площадей и проч. Самыми тяжкими считаются плотницкие работы. Арестант, бывший на родине плотником, несет здесь настоящую каторгу, и в этом отношении он гораздо несчастливее маляра или кровельщика. Вся тягость работы не в самой постройке, а в том, что каждое бревно, идущее в дело, каторжный должен притащить из леса, а рубка в настоящее время производится за 8 верст от поста. Летом люди, запряженные в бревно в пол-аршина и толще, а в длину в несколько сажен, производят тяжелое впечатление; выражение их лиц страдальческое, особенно если они, как это я часто наблюдал, уроженцы Кавказа. Зимою же, говорят, они отмораживают себе руки и ноги и часто даже замерзают, не дотащив бревна до поста. Для администрации плотницкие работы представляются тоже нелегкими, потому что людей, способных на систематический тяжкий труд, на Сахалине вообще мало и недостаток работников – явление здесь обычное, хотя каторжные считаются тысячами. Ген. Кононович говорил мне, что затевать здесь новые постройки и строиться очень трудно – людей нет; если достаточно плотников, то некому таскать бревна; если людей ушлют за бревнами, то не хватает плотников. К нелегким работам относятся здесь также обязанности дровотасков, которые каждый день рубят дрова, заготовляют их и под утро, когда еще все спят, топят печи. Чтобы судить о степени напряженности труда, об его тяжести, нужно брать во внимание не одну только затрачиваемую на него мышечную силу, но также условия места и особенности труда, зависящие от этих условий. Сильные морозы зимою и сырость в течение всего года в Александровске ставят чернорабочего в положение иной раз едва выносимое, какого он при той же работе, например при обыкновенной рубке дров, не испытал бы в России. Закон ограничивает труд каторжного «урочным положением», приближая его к обыкновенному крестьянскому и фабричному труду[17 - «Урочное положение для строительных работ, высочайше утвержденное 17 апреля 1869 г.», Петербург, 1887 г. По этому положению при определении на разного рода работы принимаются в основание: физические силы рабочего и степень навыка к работе. Положение определяет также число рабочих часов в день, сообразно временам года и полосам России. Сахалин отнесен к средней полосе России. Максимум рабочих часов – 12
/
в сутки – приходится на май, июнь и июль, а минимум – 7 час. – на декабрь и январь.]; он же предоставляет разные облегчения каторжным разряда исправляющихся; но практика поневоле не всегда сообразуется с законом именно в силу местных условий и особенностей труда. Нельзя же ведь определить, сколько часов каторжный должен тащить бревно во время метели, нельзя освободить его от ночных работ, когда последние необходимы, нельзя ведь по закону освободить исправляющегося от работы в праздник, если он, например, работает в угольной яме вместе с испытуемым, так как тогда бы пришлось освободить обоих и прекратить работу. Часто от того, что работами заведуют люди некомпетентные, неспособные и неловкие, затрачивается на работы больше напряжения, чем бы следовало. Например, нагрузка и выгрузка пароходов, не требующие в России от рабочего исключительного напряжения сил, в Александровске часто представляются для людей истинным мучением; особенной команды, подготовленной и выученной специально для работ на море, нет; каждый раз берутся все новые люди, и оттого случается нередко наблюдать во время волнения страшный беспорядок; на пароходе бранятся, выходят из себя, а внизу, на баржах, бьющихся о пароход, стоят и лежат люди с зелеными, искривленными лицами, страдающие от морской болезни, а около барж плавают утерянные весла. Благодаря этому работа затягивается, время пропадает даром и люди терпят ненужные мучения. Однажды во время выгрузки парохода я слышал, как смотритель тюрьмы сказал: «У меня люди целый день не ели».
Немало каторжного труда затрачивается на удовлетворение потребностей тюрьмы. В тюрьме каждый день работают кашевары, хлебопеки, портные, сапожники, водоносы, поломойки, дневальные, скотники и т. п. Каторжным трудом пользуются также военное и телеграфное ведомства, землемер; около 50 человек прикомандировано к тюремному лазарету, неизвестно в качестве кого и для чего, и не сочтешь тех, которые находятся в услужении у гг. чиновников. Каждый чиновник, даже состоящий в чине канцелярского служителя, насколько я мог убедиться, может брать себе неограниченное количество прислуги. Доктор, у которого я квартировал, живший сам-друг с сыном, имел повара, дворника, кухарку и горничную. Для младшего тюремного врача это очень роскошно. У одного смотрителя тюрьмы было 8 человек штатной прислуги: швея, сапожник, горничная, лакей, он же рассыльный, нянька, прачка, повар, поломойка. Вопрос о прислуге на Сахалине – обидный и грустный вопрос, как, вероятно, везде на каторге, и не новый. В своем «Кратком очерке неустройств, существующих на каторге» Власов писал, что в 1871 г., когда он прибыл на остров, его «прежде всего поразило то обстоятельство, что каторжные с разрешения бывшего генерал-губернатора составляют прислугу начальника и офицеров». Женщины, по его словам, раздавались в услуги лицам управления, не исключая и холостых надзирателей. В 1872 г. генерал-губернатор Восточной Сибири Синельников запретил отдачу преступников в услужение. Но это запрещение, имеющее силу закона и до настоящего времени, обходится самым бесцеремонным образом. Коллежский регистратор записывает на себя полдюжины прислуги, и когда отправляется на пикник, то посылает вперед с провизией десяток каторжных. Начальники острова гг. Гинце и Кононович боролись с этим злом, но недостаточно энергично; по крайней мере я нашел только три приказа, относящихся к вопросу о прислуге, и таких, которые человек заинтересованный мог широко толковать в свою пользу. Генерал Гинце, как бы в отмену генерал-губернаторского предписания, разрешил в 1885 г. (приказ № 95) чиновникам брать себе в прислуги ссыльнокаторжных женщин с платою по два рубля в месяц, и чтобы деньги были обращаемы в казну. Генерал Кононович в 1888 г. отменил приказ своего предшественника, определив: «ссыльнокаторжных, как мужчин, так и женщин, в прислугу к чиновникам не назначать и платы за женщин никакой не взыскивать. А так как казенные здания и службы при них не могут оставаться без надзора и без удовлетворения, то к каждому таковому зданию разрешаю назначать потребное число мужчин и женщин, показывая их по наряду по этим назначениям как сторожей, дровотасков, поломоек и проч., смотря по потребности» (приказ № 276). Но так как казенные здания и службы при них в громадном большинстве составляют не что иное, как квартиры чиновников, то этот приказ понимается как разрешение иметь каторжную прислугу, и притом бесплатную. Во всяком случае, в 1890 г., когда я был на Сахалине, все чиновники, даже не имеющие никакого отношения к тюремному ведомству (например, начальник почтово-телеграфной конторы), пользовались каторжными для своего домашнего обихода в самых широких размерах, причем жалованья этой прислуге они не платили, и кормилась она на счет казны.
Отдача каторжных в услужение частным лицам находится в полном противоречии со взглядом законодателя на наказание: это – не каторга, а крепостничество, так как каторжный служит не государству, а лицу, которому нет никакого дела до исправительных целей или до идеи равномерности наказания; он – не ссыльнокаторжный, а раб, зависящий от воли барина и его семьи, угождающий их прихотям, участвующий в кухонных дрязгах. Становясь поселенцем, он является в колонии повторением нашего дворового человека, умеющего чистить сапоги и жарить котлеты, но неспособного к земледельческому труду, а потому и голодного, брошенного на произвол судьбы. Отдача же в услужение каторжных женщин, кроме всего этого, имеет еще свои специальные неудобства. Не говоря уже о том, что в среде подневольных фавориты и содержанки вносят всегда струю чего-то подлого, в высшей степени унизительного для человеческого достоинства, они, в частности, совершенно коверкают дисциплину. Мне один из священников рассказывал, что бывали случаи на Сахалине, когда женщина свободного состояния или солдат, будучи в прислугах, должны были при известных обстоятельствах убирать и выносить после каторжной[18 - Власов в своем отчете пишет: «Такое странное отношение лиц: офицера, каторжной в качестве его любовницы и солдата в роли ее кучера, – не может не вызвать удивления и сожаления». Говорят, что это зло допускается только ввиду невозможности иметь прислугу из лиц свободного состояния. Но это неправда. Во-первых, возможно ограничить количество прислуги; ведь находят же возможным офицеры иметь только по одному денщику. Во-вторых, чиновники здесь, на Сахалине, получают хорошее жалованье и могут нанимать себе прислугу из среды поселенцев, крестьян из ссыльных и женщин свободного состояния, которые в большинстве случаев нуждаются и потому не отказались бы от заработка. Мысль эта приходила, вероятно, и начальству, так как есть приказ, в котором одной поселке, как неспособной к земледельческому труду, разрешалось «приобретать средства к существованию наймом в прислуги у гг. чиновников» (приказ № 44, 1889 г.).].
То, что в Александровске с важностью зовется «заводскою промышленностью», с внешней стороны обставлено красиво и шумно, но не имеет пока серьезного значения. В литейной мастерской, которою заведует механик-самоучка, я видел колокола, вагонные и тачечные колеса, ручную мельницу, машинку для ажурной работы, краны, приборы для печей и т. п., но все это производит игрушечное впечатление. Вещи прекрасны, но ведь сбыта нет никакого, а для местных надобностей было бы выгоднее приобретать их на материке или в Одессе, чем заводить свои локомобили и целый штат платных рабочих. Конечно, не было бы жаль никаких затрат, если бы мастерские здесь были школами, где каторжные учились бы мастерствам; на самом же деле, в литейной и слесарной работают не каторжные, а опытные мастера-поселенцы, состоящие на положении младших надзирателей, с жалованьем по 18 руб. в месяц. Здесь слишком заметно увлечение вещью; гремят колеса и молот, и свистят локомобили только во имя качества вещи и сбыта ее; коммерческие и художественные соображения не имеют здесь никакого отношения к наказанию, а между тем на Сахалине, как и везде на каторге, всякое предприятие должно иметь своею ближайшею и отдаленною целью только одно – исправление преступника, и здешние мастерские должны стремиться к тому, чтобы сбывать на материк прежде всего не печные дверцы и не краны, а полезных людей и хорошо подготовленных мастеров.
Паровая мельница, лесопильня и кузница содержатся в отличном порядке. Люди работают весело потому, вероятно, что сознают производительность труда. Но и здесь работают главным образом специалисты, которые уже на родине были мельниками, кузнецами и проч., а не те, которые, живя на родине, не умели работать, ничего не знали и теперь больше чем кто-либо нуждаются в мельницах и кузницах, где бы их обучили и поставили на ноги[19 - Мельница и слесарная находятся в одном здании и получают приводы от двух локомобилей. В мельнице четыре постава с размолом в 1500 п. в день. В лесопильне работает старый локомобиль, привезенный сюда еще кн. Шаховским; его топят опилками. В кузнице производится работа день и ночь, в две смены, работает шесть горнов. Всего занято в мастерской 105 человек. Каторжные в Александровске занимаются также добычей угля, но это дело едва ли будет иметь когда-нибудь успех. Уголь из местных копей гораздо хуже дуйского: он грязнее на вид и смешан со сланцем. Обходится он здесь не дешево, так как в шахтах работает постоянный штат рабочих под наблюдением особого горного инженера. Существование местных копей не вызывается необходимостью, так как до Дуэ недалеко и оттуда во всякое время можно получать превосходный уголь. Открыты они, впрочем, с доброю целью – дать в будущем заработок поселенцам.].
VI
РАССКАЗ ЕГОРА
Доктор, у которого я квартировал, уехал на материк вскоре после увольнения от службы, и я поселился у одного молодого чиновника, очень хорошего человека. У него была только одна прислуга, старуха-хохлушка, каторжная, и изредка, этак раз в день, наведывался к нему каторжный Егор, дровотаск, который прислугою его не считался, но «из уважения» приносил дров, убирал помои на кухне и вообще исполнял обязанности, которые были не под силу старушке. Бывало, сидишь и читаешь или пишешь что-нибудь, и вдруг слышишь какой-то шорох и пыхтенье, и что-то тяжелое ворочается под столом около ног; взглянешь – это Егор, босой, собирает под столом бумажки или вытирает пыль. Ему лет под сорок, и представляет он из себя человека неуклюжего, неповоротливого, как говорится, увальня, с простодушным, на первый взгляд глуповатым лицом и с широким, как у налима, ртом. Он рыжий, бородка у него жидкая, глаза маленькие. На вопрос он сразу не отвечает, а сначала искоса посмотрит и спросит: «Чаво?» или «Кого ты?» Величает вашим высокоблагородием, но говорит ты. Он не может сидеть без работы ни одной минуты и находит ее всюду, куда бы ни пришел. Говорит с вами, а сам ищет глазами, нет ли чего убрать или починить. Он спит два-три часа в сутки, потому что ему некогда спать. В праздники он обыкновенно стоит где-нибудь на перекрестке, в пиджаке поверх красной рубахи, выпятив вперед живот и расставив ноги. Это называется «гулять».
Здесь, на каторге, он сам построил себе избу, делает ведра, столы, неуклюжие шкапы. Умеет делать всякую мебель, но только «про себя», то есть для собственной надобности. Сам никогда не дрался и бит не бывал; только когда-то в детстве отец высек его за то, что горох стерег и петуха впустил.
Однажды у меня с ним происходил такой разговор:
– За что тебя сюда прислали? – спросил я.
– Чаво ты говоришь, ваше высокоблагородие?
– За что тебя прислали на Сахалин?
– За убийство.
– Ты расскажи мне с самого начала, как было дело.
Егор стал у косяка, заложил назад руки и начал:
– Ходили мы к барину Владимиру Михайлычу, рядились о дровах, о пилке и поставке на станцию. Хорошо. Порядились и пошли домой. Этак не далеко отошедши от села, послал меня народ в контору с условием – засвидетельствовать. Я был на лошади. По дороге к конторе Андрюха воротил меня: был большой разлив, нельзя было проехать. «Завтра, говорит, я поеду в контору об земле своей рендовой и это условие засвидетельствую». Ладно. Отсюда пошли мы вместе: я на лошади, а кумпания пешком. Дошли мы до Парахина. Мужики зашли закуривать к кабаку, мы с Андрюхой сзади остались на тротуаре около трактира. Он и говорит: «Нет ли у тебя, братко, пятачка? Выпить, говорит, хотно». А я ему: «Да ты, брат, говорю, такой человек: зайдешь выпить за пятачок, да тут и запьянничаешь». А он говорит: «Нет, не буду, выпью, да и пойду домой». Подошли к мужикам, сговорили на четверть, собрали на четверть, в кабак зашли, четверть водки купили. Сели за стол пить.
– Ты покороче, – замечаю я.
– Постой, не перебивай, ваше высокоблагородие. Роспили мы эту водку, вот он, Андрюха то есть, еще взял перцовки сороковку. По стакану налил себе и мне. Мы по стакану вместе с ним и выпили. Ну, вот, тут пошли весь народ домой из кабака, и мы с ним сзади пошли тоже. Меня переломило верхом-то ехать, я слез и сел тут на бережку. Я песни пел да шутил. Разговору не было худого. Потом этого встали и пошли.
– Ты расскажи мне про убийство, – перебиваю я.
– Постой. Дома я лег и спал до утрия, пока не разбудили: «Ступай, кто из вас побил Андрея?» Тут уж и Андрея привезли, и урядник приехал. Урядник стал допрашивать нас всех, никто мы не признаемся к этому делу. А Андрей еще живой был и говорит: «Ты, Сергуха, ударил меня стягом, а больше я ничего не помню». Сергуха не признается. Мы все так и думали, что Сергуха, и начали глядеть за ним, чтобы не сделал себе чего. Через сутки Андрей помер. Сергея и подучи там свои, сестра да тесть: «Ты, Сергей, не отпирайся, тебе все равно. Признавайся да подтягивай, кого ближе захватил. Тебе влегота будет». Как только что помер Андрей, мы весь народ и собрались к старосте и Сергея оповестили. Сергея допрашиваем, а он не признается. Потом пустили его к себе ночевать в свой дом. Некоторые его здесь стерегли, не сделал бы себе чего. У него тут ружьишко было. Опасно. Поутру хватились – его нет, тут соскорили у него обыск делать, и по деревне искали, и в поле бегали, искали его. Потом уж пришли из стану и объявили, что Сергей уже там. Тут нас начали забирать. А Сергей, знаешь, прямо к становому да к уряднику, на коленки стал и говорит на нас, что Ефремовы дети уже года три нанимали побить Андрюху. «Дорогой, говорит, шли мы втроем – Иван, да Егор, да я – и сговорились вместе побить. Я, говорит, корчевочкой ударил Андрюху, а Иван да Егор схватились бить его, а я испужался да назад, говорит, побежал, за задними мужиками». Потом нас – Ивана, Киршу, меня и Сергея – забрали и в тюрьму в город.
– А кто такие Иван и Кирша?
– Братья мои родные. В тюрьму пришел купец Петр Михайлыч и взял нас на поруки. И были на поруках у него до Покрова. Жили мы хорошо, сохранно. На другой день Покрова нас судили в городе. У Кирши были свидетели – задние мужики выправили, а меня так, брат, и влопало. Я на суде говорил то, что тебе вот сказываю, как есть, а суд не верит: «Тут все так говорят и глазы крестят, а все неправда». Ну, осудили, да в острог. В остроге жили под замком, но только был я парашечником, подметал камеры и обед подносил. Давали мне за это каждый по пайку хлеба в месяц. Фунта три будет с человека. Как заслышали выход, телеграмму домой послали. Перед Николой было дело. Женка и брат Кирша приехали нас проведать и кое-чего тут привезли из платья, да и еще кое-чего… Женка плакала-выла, да ничего не поделаешь. Как поехала, я ей туда домой два пайка хлеба дал в гостинцы. Поплакали и поклон послали детям и всем крещеным. Дорогой мы были скованы нарушнями. По два человека шли. Я шел с Иваном. В Новгороде с нас карточки снимали, тут заковали нас и головы брили. Потом в Москву погнали. В Москве, когда сидели, на помилование прошение посылали. Как ехал в Одессу, не помню. Хорошо ехал. В Одессе нас выспрашивали в докторской, скидывали одежу всю, оглядывали. Потом собрали нас и погнали на пароход. Тут казаки и солдаты нас рядом вели по ступенькам и посадили нас в нутро. Сидим на нарах, да и все. Всяк на свое место. На верхней наре пять человек нас сидело. Сперва мы не понимали, а потом говорят: «Поехали, поехали!» Ехали, ехали, а потом начало качать. Жар такой, голые стояли народ. Кто блевал, а другой – ничего. Тут, конечно, больше лежали. А шторм горазд был. Во все стороны кидало. Ехали, ехали, потом и наехали. Нас так и толконуло. День туманливый. Сталось темно. Как толконуло, и установилось, качается, знашь, на скалах; думали, что рыбина это качает под низом, ворочает пароход[20 - Речь идет о крушении «Костромы» у западного берега Сахалина в 1887 г.]. Наперед дергали, дергали – не сдернуть, да назад зачали дергать. Назад стали дергать, посередке и проломило снизу. Начали парусом дыру затягивать; затягивали, затягивали – ничего способу нет. Вода накопилась до самого полу, где народ сидит, и стала под народ выходить вода на пол. Народ просит: «Не дайте погибнуть, ваше благородие!» И он сперва: «Не ломитесь, не проситесь, не дам погибнуть ничего». Потом стало накопляться под нижние нары. Крещеные стали проситься да ломиться. Барин и говорит: «Ну, ребята, выпущу вас, только чтоб не бунтовать, а нет – всех перестреляю». Потом выпустил. Сделали богомоление, чтобы Господь усмирил, не погибнуть бы. Молились на коленках. После богомоления выдавали нам галеты, сахар, и море засмирилось. На другой день стали вывозить народ на баржах на берег.
На берегу было богомоление. Потом нас перегрузили на другое судно, турецкое[21 - Пароход Добровольного флота «Владивосток».], и привезли сюда, в Александровск. Сняли нас засветло на пристань, да тут долго нас продержали, и отправились мы с пристани уже в потемушках. Крещеные так плетнем и шли, а тут еще навалилась куриная слепота. Друг за дружку держатся; кто видит, а кто и нет – вот и цеплялись. Я за собой десяток крещеных вел. Пригнали в тюрьму на двор и стали разбирать по казармам, кого куда. Ужинали перед сном, что было у кого, а утром нам начали выдавать, что следует. Дня два отдыхали, на третий в баню, а на четвертый работать погнали. Перво-наперво копали канавы под здание, где лазарет теперь. Корчевали, обирали, копали и все прочее – этак неделю или две, а может, и с месяц. Потом мы возили бревна из-под Михайловки. Таском тащили версты за три и в груды у моста сваливали. Потом на огород погнали ямы для воды копать. А как наступил сенокос, стали собирать крещеных: спрашивают, кто косить умеет, – ну, кто признавался, того и писали. Выдали нам на всю артель хлеб, крупу, мясо и погнали с надзирателем на сенокос в Армуданы. Жил я ничего, Бог здоровья давал, и косил я хорошо. Других надзиратель колотил, а я дурного слова не слыхивал. Ругается только народ, зачем бойко идешь, – ну, да ничего. В свободное время или когда дождь, я плел себе ступни. Люди спать с работы, а я сижу да плету. Ступни продавал, две порции говядины за ступни, а это четыре копейки стоит. Сенокос выставивши, пошли домой. Домой пришли, сняли нас в тюрьму. Потом взяли меня к поселенцу Сашке на Михайловку в работники. У Сашки я делал все по крестьянской работе: жал, убирал, молотил, картошку копал, а Сашка за меня в козну бревна возил. Ели все свое, что получали из козны. Отработал я два месяца и четыре дня. Обещал Сашка денег, да не дал ничего. Только и дал, что пуд картошки. Привез меня Сашка в тюрьму и сдал. Выдали мне топор и веревку – дрова таскать. Семь печей отоплял. Я в юрте жил, за камарщика воду носил и подметал. У татарина-магзы[22 - Китаец-манза.] майдан сторожил. Как приду с работы, мне он свой майдан уверял, я продавал, а он мне за это 15 копеек в сутки платил. Весной, когда дни стали подолже, я стал плесть лапти. Брал по десять копеек. А летом рекой дрова гонял. Накопил я их кучу большую и потом этого продал жиду-банщику. Накопил я также лесу 60 дерев и продал по 15 копеек. Вот и живу помаленьку, как Бог дает. А только, ваше высокоблагородие, разговаривать мне с тобой некогда, надо по воду идти.
– В поселенцы скоро выйдешь?
– Лет через пять.
– Скучаешь по дому?
– Нет. Одно вот только – детей жалко. Глупы.
– Скажи, Егор, о чем ты думал, когда тебя в Одессе на пароход вели?
– Бога молил.
– О чем?
– Чтобы детям ума-разума послал.
– Отчего ты жену и детей не взял с собой на Сахалин?
– Потому что им и дома хорошо.
VII
Маяк. – Корсаковское. – Коллекция д-ра П. И. Супруненко. – Метеорологическая станция. – Климат Александровского округа. – Ново-Михайловка. – Потемкин. – Экс-палач Терский. – Красный Яр. – Бутаково
Прогулки по Александровску и его окрестностям с почтовым чиновником, автором «Сахалино», оставили во мне приятное воспоминание. Чаще всего мы ходили к маяку, который стоит высоко над долиной, на мысе Жонкиер. Днем маяк, если посмотреть на него снизу, – скромный белый домик с мачтой и с фонарем, ночью же он ярко светит в потемках, и кажется тогда, что каторга глядит на мир своим красным глазом. Дорога к домику поднимается круто, оборачиваясь спиралью вокруг горы, мимо старых лиственниц и елей. Чем выше поднимаешься, тем свободнее дышится; море раскидывается перед глазами, приходят мало-помалу мысли, ничего общего не имеющие ни с тюрьмой, ни с каторгой, ни с ссыльною колонией, и тут только сознаешь, как скучно и трудно живется внизу. Каторжные и поселенцы изо дня в день несут наказание, а свободные от утра до вечера говорят только о том, кого драли, кто бежал, кого поймали и будут драть; и странно, что к этим разговорам и интересам сам привыкаешь в одну неделю и, проснувшись утром, принимаешься прежде всего за печатные генеральские приказы – местную ежедневную газету, и потом целый день слушаешь и говоришь о том, кто бежал, кого подстрелили и т. п. На горе же, в виду моря и красивых оврагов, все это становится донельзя пошло и грубо, как оно и есть на самом деле.