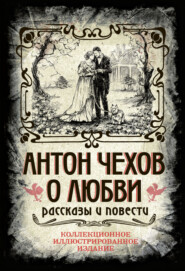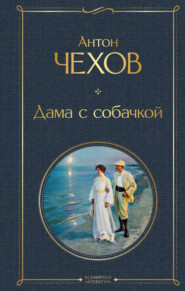По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Ариадна
Автор
Год написания книги
1895
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Вы такой талант! – говорила она сладко-певучим голосом. – С вами даже страшно. Я думаю, вы должны видеть людей насквозь.
И все это для того, чтобы нравиться, иметь успех, быть обаятельной! Она просыпалась каждое утро с единственною мыслью: «нравиться!» И это было целью и смыслом ее жизни. Если бы я сказал ей, что на такой-то улице в таком-то доме живет человек, которому она не нравится, то это заставило бы ее серьезно страдать. Ей каждый день нужно было очаровывать, пленять, сводить с ума. То, что я был в ее власти и перед ее чарами обращался в совершенное ничтожество, доставляло ей то самое наслаждение, какое победители испытывали когда-то на турнирах. Моего унижения было недостаточно, и она еще по ночам, развалившись, как тигрица, не укрытая, – ей всегда бывало жарко, – читала письма, которые присылал ей Лубков; он умолял ее вернуться в Россию, иначе клялся обокрасть кого-нибудь или убить, чтобы только добыть денег и приехать к ней. Она ненавидела его, но его страстные, рабские письма волновали ее. О своих чарах она была необыкновенного мнения; ей казалось, что если бы где-нибудь в многолюдном собрании увидели, как хорошо она сложена и какого цвета у нее кожа, то она победила бы всю Италию, весь свет. Эти разговоры о сложении, о цвете кожи оскорбляли меня, и, заметив это, она, когда бывала сердита, чтобы досадить мне, говорила всякие пошлости и дразнила меня, и дошло даже до того, что однажды на даче у одной дамы она рассердилась и сказала мне:
– Если вы не перестанете надоедать мне вашими поучениями, то я сейчас же разденусь и голая лягу вот на эти цветы!
Часто, глядя, как она спит или ест, или старается придать своему взгляду наивное выражение, я думал: для чего же даны ей богом эта необыкновенная красота, грация, ум. Неужели для того только, чтобы валяться в постели, есть и лгать, лгать без конца? Да и была ли она умна? Она боялась трех свечей, тринадцатого числа, приходила в ужас от сглаза и дурных снов, о свободной любви и вообще свободе толковала, как старая богомолка, уверяла, что Болеслав Маркович лучше Тургенева. Но она была дьявольски хитра и остроумна, и в обществе умела казаться очень образованным, передовым человеком.
Ей ничего не стоило даже в веселую минуту оскорбить прислугу, убить насекомое; она любила бои быков, любила читать про убийства и сердилась, когда подсудимых оправдывали.
При той жизни, какую вели я и Ариадна, нам много нужно было денег. Бедный отец высылал мне свою пенсию, все свои доходишки, занимал для меня, где только можно было, и когда он однажды ответил мне «non habeo»[5 - Не имею (лат.).], я послал ему отчаянную телеграмму, в которой умолял заложить имение. Немного погодя я попросил его взять где-нибудь денег под вторую закладную. То и другое он исполнил безропотно и выслал мне все деньги до копейки. А Ариадна презирала практику жизни, ей не было никакого дела до всего этого, и, когда я, бросая тысячи франков на удовлетворение ее безумных желаний, кряхтел, как старое дерево, она с легкой душой напевала «Addio, bella Napoli»[6 - «Прощай, прекрасный Неаполь» (ит.).]. Мало-помалу я охладел к ней и стал стыдиться нашей связи. Я не люблю беременности и родов, но теперь уже мечтал иногда о ребенке, который был бы хотя формальным оправданием этой нашей жизни. Чтобы не опротиветь себе окончательно, я стал посещать музеи и галереи и читать книжки, мало ел и бросил пить. Этак гоняешь себя на корде от утра до вечера, оно как будто на душе легче. Надоел и я Ариадне. Кстати же люди, у которых она имела успех, были все средние люди, посланников и салона по-прежнему не было, денег не хватало, и это оскорбляло ее и заставляло рыдать, и она объявила мне, наконец, что, пожалуй, она не прочь бы и в Россию. И вот мы едем. В последние месяцы перед отъездом она усердно переписывалась со своим братом, у нее, очевидно, какие-то тайные замыслы, а какие – бог весть. Мне уже надоело вникать в ее хитрости. Но мы едем не в деревню, а в Ялту, потом из Ялты на Кавказ. Теперь она может жить только в курортах, а если б вы знали, до какой степени я ненавижу все эти курорты, как в них мне бывает душно и стыдно. Мне бы теперь в деревню! Мне бы теперь работать, добывать хлеб в поте лица, искупать свои ошибки. Теперь я чувствую в себе избыток сил, и мне кажется, что, напрягши эти силы, я выкупил бы имение в пять лет. Но вот, как видите, осложнение. Здесь не заграница, а Россия матушка, приходится подумать о законном браке. Конечно, увлечение уже прошло, любви прежней нет и в помине, но, как бы ни было, я обязан на ней жениться.
Шамохин, взволнованный своим рассказом, и я спускались вниз и продолжали говорить о женщинах. Было уже поздно. Оказалось, что он и я помещались в одной каюте.
– Пока только в деревнях женщина не отстает от мужчины, – говорил Шамохин, – там она так же мыслит, чувствует и так же усердно борется с природой во имя культуры, как и мужчина. Городская же, буржуазная, интеллигентная женщина давно уже отстала и возвращается к своему первобытному состоянию, наполовину она уже человек-зверь, и благодаря ей очень многое, что было завоевано человеческим гением, уже потеряно; женщина мало-помалу исчезает, на ее место садится первобытная самка. Эта отсталость интеллигентной женщины угрожает культуре серьезной опасностью; в своем регрессивном движении она старается увлечь за собой мужчину и задерживает его движение вперед. Это несомненно.
Я спросил: зачем обобщать, зачем по одной Ариадне судить обо всех женщинах? Уже одно стремление женщин к образованию и равноправию полов, которое я понимаю как стремление к справедливости, само по себе исключает всякое предположение о регрессивном движении. Но Шамохин едва слушал меня и недоверчиво улыбался. Это был уже страстный, убежденный женоненавистник, и переубедить его было невозможно.
– Э, полноте! – перебил он. – Раз женщина видит во мне не человека, не равного себе, а самца и всю свою жизнь хлопочет только о том, чтобы понравиться мне, т. е. завладеть мной, то может ли тут быть речь о полноправии? Ох, не верьте им, они очень, очень хитры! Мы, мужчины, хлопочем насчет их свободы, но они вовсе не хотят этой свободы и только делают вид, что хотят. Ужасно хитрые, страшно хитрые!
Мне уже было скучно спорить и хотелось спать. Я повернулся лицом к стенке.
– Да-с, – слышал я, засыпая. – Да-с. А всему виной наше воспитание, батенька. В городах все воспитание и образование женщины в своей главной сущности сводятся к тому, чтобы выработать из нее человека-зверя, т. е. чтобы она нравилась самцу и чтобы умела победить этого самца. Да-с, – Шамохин вздохнул. – Нужно, чтобы девочки воспитывались и учились вместе с мальчиками, чтобы те и другие были всегда вместе. Надо воспитывать женщину так, чтобы она умела, подобно мужчине, сознавать свою неправоту, а то она, по ее мнению, всегда права. Внушайте девочке с пеленок, что мужчина прежде всего не кавалер и не жених, а ее ближний, равный ей во всем. Приучайте ее логически мыслить, обобщать и не уверяйте ее, что ее мозг весит меньше мужского и что поэтому она может быть равнодушна к наукам, искусствам, вообще культурным задачам. Мальчишка-подмастерье, сапожник или маляр, тоже имеет мозг меньших размеров, чем взрослый мужчина, однако же участвует в общей борьбе за существование, работает, страдает. Надо также бросить эту манеру ссылаться на физиологию, на беременность и роды, так как, во-первых, женщина родит не каждый месяц; во-вторых, не все женщины родят и, в-третьих, нормальная деревенская женщина работает в поле накануне родов – и ничего с ней не делается. Затем должно быть полнейшее равноправие в обыденной жизни. Если мужчина подает даме стул или поднимает оброненный платок, то пусть и она платит ему тем же. Я ничего не буду иметь против, если девушка из хорошего семейства поможет мне надеть пальто или подаст мне стакан воды…
Больше я ничего не слышал, так как уснул. На другой день утром, когда мы подходили к Севастополю, была неприятная сырая погода. Покачивало. Шамохин сидел со мной в рубке, о чем-то думал и молчал. Мужчины с поднятыми воротниками пальто и дамы с бледными, заспанными лицами, когда позвонили к чаю, стали спускаться вниз. Одна дама, молодая и очень красивая, та самая, которая в Волочиске сердилась на таможенных чиновников, остановилась перед Шамохиным и сказала ему с выражением капризного, избалованного ребенка:
– Жан, твою птичку укачало!
Потом, живя в Ялте, я видел, как эта красивая дама мчалась на иноходце, и за ней едва поспевали какие-то два офицера, и как она однажды утром, во фригийской шапочке и в фартучке, писала красками этюд, сидя на набережной, и большая толпа стояла поодаль и любовалась ею. Познакомился и я с ней. Она крепко-крепко пожала мне руку и, глядя на меня с восхищением, поблагодарила сладко-певучим голосом за то удовольствие, какое я доставляю ей своими сочинениями.
– Не верьте, – шепнул мне Шамохин, – она ничего вашего не читала.
Как-то перед вечером, когда я гулял по набережной, мне встретился Шамохин; в руках у него были большие свертки с закусками и фруктами.
– Князь Мактуев здесь! – сказал он радостно. – Вчера приехал с ее братом-спиритом. Теперь я понимаю, о чем она тогда переписывалась с ним! Господи, – продолжал он, глядя на небо и прижимая свертки к груди, – если у нее наладится с князем, то ведь это значит свобода, я могу уехать тогда в деревню, к отцу!
И он побежал дальше.
– Я начинаю веровать в духов! – крикнул он мне, оглядываясь. – Дух деда Илариона, кажется, напророчил правду! О, если бы!
На другой день после этой встречи я выехал из Ялты, и чем кончился роман Шамохина – мне неизвестно.
notes
Примечания
1
Здесь – строении (фр.).
2
Пристройки (фр.).
3
Кофе с молоком, булки и масло (фр.).
4
Войдите! (фр.)
5
Не имею (лат.).
6
«Прощай, прекрасный Неаполь» (ит.).