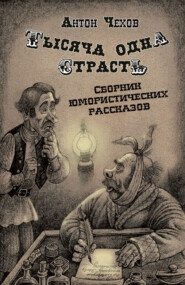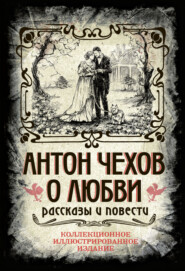По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Степь. Избранное
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Гы-ы… – смеется он. – Веселые господа… дай Бог здоровья!
– Извозчик, ты женат? – спрашивает длинный.
– Я-то? Гы-ы… ве-еселые господа! Таперя у меня одна жена – сырая земля… Хи-хо-хо… Могила то есть!.. Сын-то вот помер, а я жив… Чудное дело, смерть дверью обозналась… Заместо того, чтоб ко мне идтить, она к сыну…
И Иона оборачивается, чтобы рассказать, как умер его сын, но тут горбач легко вздыхает и заявляет, что, слава Богу, они наконец приехали. Получив двугривенный, Иона долго глядит вслед гулякам, исчезающим в темном подъезде. Опять он одинок, и опять наступает для него тишина… Утихшая ненадолго тоска появляется вновь и распирает грудь еще с большей силой. Глаза Ионы тревожно и мученически бегают по толпам, снующим по обе стороны улицы: не найдется ли из этих тысяч людей хоть один, который выслушал бы его? Но толпы бегут, не замечая ни его, ни тоски… Тоска громадная, не знающая границ. Лопни грудь Ионы и вылейся из нее тоска, так она бы, кажется, весь свет залила, но тем не менее ее не видно. Она сумела поместиться в такую ничтожную скорлупу, что ее не увидишь днем с огнем…
Иона видит дворника с кульком и решает заговорить с ним.
– Милый, который теперь час будет? – спрашивает он.
– Десятый… Чего же стал здесь? Проезжай!
Иона отъезжает на несколько шагов, изгибается и отдается тоске… Обращаться к людям он считает уже бесполезным. Но не проходит и пяти минут, как он выпрямляется, встряхивает головой, словно почувствовал острую боль, и дергает вожжи… Ему невмоготу, «Ко двору, – думает он. – Ко двору!»
И лошаденка, точно поняв его мысль, начинает бежать рысцой. Спустя часа полтора Иона сидит уже около большой, грязной печи. На печи, на полу, на скамьях храпит народ. В воздухе «спираль» и духота… Иона глядит на спящих, почесывается и жалеет, что так рано вернулся домой…
«И на овес не выездил, – думает он. – Оттого-то вот и тоска. Человек, который знающий свое дело… который и сам сыт, и лошадь сыта, завсегда покоен…»
В одном из углов поднимается молодой извозчик, сонно крякает и тянется к ведру с водой.
– Пить захотел? – спрашивает Иона.
– Стало быть, пить!
– Так… На здоровье… А у меня, брат, сын помер… Слыхал? На этой неделе в больнице… История!
Иона смотрит, какой эффект произвели его слова, но не видит ничего. Молодой укрылся с головой и уже спит. Старик вздыхает и чешется… Как молодому хотелось пить, так ему хочется говорить. Скоро будет неделя, как умер сын, а он еще путем не говорил ни с кем… Нужно поговорить с толком, с расстановкой… Надо рассказать, как заболел сын, как он мучился, что говорил перед смертью, как умер… Нужно описать похороны и поездку в больницу за одеждой покойника. В деревне осталась дочка Анисья… И про нее нужно поговорить… Да мало ли о чем он может теперь поговорить? Слушатель должен охать, вздыхать, причитывать… А с бабами говорить еще лучше. Те хоть и дуры, но ревут от двух слов.
«Пойти лошадь поглядеть, – думает Иона. – Спать всегда успеешь… Небось выспишься…»
Он одевается и идет в конюшню, где стоит его лошадь. Думает он об овсе, сене, о погоде… Про сына, когда один, думать он не может… Поговорить с кем-нибудь о нем можно, но самому думать и рисовать себе его образ невыносимо жутко…
– Жуешь? – спрашивает Иона свою лошадь, видя ее блестящие глаза. – Ну, жуй, жуй… Коли на овес не выездили, сено есть будем… Да… Стар уж стал я ездить… Сыну бы ездить, а не мне… То настоящий извозчик был… Жить бы только…
Иона молчит некоторое время и продолжает:
– Так-то, брат кобылочка… Нету Кузьмы Ионыча… Приказал долго жить… Взял и помер зря… Таперя, скажем, у тебя жеребеночек, и ты этому жеребеночку родная мать… И вдруг, скажем, этот самый жеребеночек приказал долго жить… Ведь жалко?
Лошаденка жует, слушает и дышит на руки своего хозяина…
Иона увлекается и рассказывает ей все…
Пустой случай
Был солнечный, августовский полдень, когда я с одним русским захудалым князьком подъехал к громадному, так называемому Шабельскому бору, где мы намеревались поискать рябчиков. Мой князек, ввиду роли, которую он играет в этом рассказе, заслуживал бы подробного описания. Это высокий, стройный брюнет, еще не старый, но уже достаточно помятый жизнью, с длинными полицеймейстерскими усами, с черными глазами навыкате и с замашками отставного военного. Человек он недалекий, восточного пошиба, но честный и прямой, не бреттер, не фат и не кутила – достоинства, дающие в глазах публики диплом на бесцветность и мизерность. Публике он не нравился (в уезде иначе не называли его, как «сиятельным балбесом»), мне же лично князек был до крайности симпатичен своими несчастьями и неудачами, из которых без перерыва состояла вся его жизнь. Прежде всего он был беден. В карты он не играл, не кутил, делом не занимался, никуда не совал своего носа и вечно молчал, но сумел каким-то образом растранжирить тридцать – сорок тысяч, оставшиеся ему после отца. Один Бог знает, куда девались эти деньги; мне известно только, что много, за отсутствием досмотра, было расхищено управляющими, приказчиками и даже лакеями, много прошло на займы, подачки и поручительства. В уезде редкий помещик не состоял ему должным. Всем просящим он давал и не столько из доброты или доверия к людям, сколько из напускного джентльменства: возьми, мол, и чувствуй мою комильфотность! Я познакомился с ним, когда уж он сам залез в долги, узнал вкус во вторых закладных и запутался до невозможности выпутаться. Бывали дня, когда он не обедал и ходил с пустым портсигаром, но всегда его видели чистеньким, одетым по моде, и всегда от него шел густой запах иланг-иланга.
Вторым несчастьем князя было его круглое одиночество. Женат он не был, родных и друзой не имел. Молчаливый, скрытный характер и комильфотность, которая тем резче выступала на первый план, чем сильнее хотелось скрыть бедность, мешали ему сближаться с людьми. Для романов он был тяжел, вял и холоден, а потому редко сходился с женщинами…
Подъехав к лесу, я и этот князек вылезли из брички и пошли по узкой тесной тропинке, прятавшейся в тени громадных листьев папоротника. Но не прошли мы и ста шагов, как из-за молодого, аршинного ельника, точно из земли выросши, поднялась высокая жидкая фигура с длинным овальным лицом, в потертом пиджаке, в соломенной шляпе и в лакированных ботфортах. В одной руке незнакомца была корзинка с грибами, другою он игриво теребил дешевенькую цепочку на жилетке. Увидав нас, он сконфузился, поправил жилетку, вежливо кашлянул и приятно улыбнулся, точно рад был видеть таких хороших людей, как мы. Потом, совершенно неожиданно для нас, он, шаркая по траве длинными ногами, изгибаясь всем телом и не переставая приятно улыбаться, подошел к нам, приподнял шляпу и произнес слащавым голосом, в котором слышалась интонация воющей собаки:
– Э-а-э… господа, как мне ни тяжело, но я должен предупредить вас, что в этом лесу охота воспрещается. Извините, что, не будучи знаком, осмеливаюсь беспокоить вас, но… позвольте представиться: я – Гронтовский, главный конторщик при экономии госпожи Кандуриной!
– Очень приятно, но почему же нельзя охотиться?
– Такова воля владетельницы этого леса!
Я и князь переглянулись. Минута прошла в молчании. Князь стоял и задумчиво глядел себе под ноги на большой мухомор, сбитый палкой. Гронтовский продолжал приятно улыбаться. Все лицо его моргало, медоточило, и казалось, даже цепочка на жилетке улыбалась и старалась поразить нас своею деликатностью. В воздухе на манер тихого ангела пролетел конфуз; всем троим было неловко.
– Пустое! – сказал я. – Не дальше как на прошлой неделе я тут охотился!
– Очень может быть! – захихикал сквозь зубы Гронтовский. – Фактически здесь все охотятся, не глядя на запрещение, но раз я с вами встретился, моя обязанность… священный долг предупредить вас. Я человек зависимый. Если бы лес был мой, то, честное слово Гронтовского, я не противился бы вашему приятному удоводьствию. Но кто виноват, что Гронтовский зависим?
Долговязый субъект вздохнул и пожал плечами. Я начал спорить, кипятиться и доказывать, но чем громче и убедительнее я говорил, тем медовее и приторнее становилось лицо Гронтовского. Очевидно, сознание некоторой власти над нами доставляло ему величайшее наслаждение. Он наслаждался своим снисходительным тоном, любезностью, манерами и с особенным чувством произносил свою звучную фамилию, которую он, вероятно, очень любил. Стоя перед нами, он чувствовал себя больше чем в своей тарелке.
Только судя по косым, конфузливым взглядам, которые он изредка бросал на свою корзинку, одно лишь портило его настроение – это грибы, бабья, мужицкая проза, оскорблявшая его величие.
– Не ворочаться же нам назад! – сказал я. – Мы пятнадцать верст проехали!
– Что делать! – вздохнул Гронтовский. – Если бы вы изволили проехать не пятнадцать, а сто тысяч верст, если бы даже король приехал сюда из Америки или из другой какой-нибудь далекой страны, то и тогда бы я счел за долг… священную, так сказать, обязанность…
– Этот лес принадлежит Надежде Львовне? – спросил князь.
– Да-с, Надежде Львовне…
– Она теперь дома?
– Да-с… Вот что, вы съездите к ней – полверсты отсюда, не больше, – если она даст вам записочку, то я… понятно! Ха-ха… хи-хи-с!..
– Пожалуй, – согласился я. – Съездить к ней гораздо ближе, чем ворочаться… Съездите к ней, Сергей Иваныч, – обратился я к князю. – Вы с ней знакомы.
Князь, глядевший все время на сбитый мухомор, поднял на меня глаза, подумал и сказал:
– Я когда-то был с ней знаком, но… мне не совсем ловко к ней идти. И к тому же я плохо одет… Съездите вы, вы с ней незнакомы… Вам удобнее.
Я согласился. Мы сели в шарабан и, провожаемые улыбками Гронтовского, покатили по краю леса к барской усадьбе. С Надеждой Львовной Кандуриной, урожденной Шабельской, знаком я не был, никогда раньше вблизи не видал ее и знал ее только понаслышке. Я знал, что она была невылазно богата, как никто в губернии… После смерти отца, помещика Шабельского, у которого она была единственной дочерью, осталось ей несколько имений, конский завод и много денег. Слышал я, что она, несмотря на свои двадцать пять – двадцать шесть лет, некрасива, бесцветна, ничтожна, как все, и выделяется из ряда обыкновенных уездных барынь только своим громадным состоянием.
Мне всегда казалось, что богатство ощущается и что у богачей должно быть свое особенное чувство, неизвестное беднякам. Часто, проезжая мимо большого фруктового сада Надежды Львовны, из которого высился громадный тяжелый дом с всегда занавешенными окнами, я думал: «Что чувствует она в данную минуту? Есть ли там за шторами счастье?» и т. д. Раз я видел издалека, как она ехала откуда-то на хорошеньком легком кабриолете и правила красивой белой лошадью, и – грешный человек – я не только позавидовал ей, но даже нашел, что в ее посадке, в ее движениях есть что-то особенное, чего нет у людей небогатых, подобно тому, как люди, по натуре раболепные, в обыкновенной наружности людей познатнее себя умудряются с первого взгляда находить породу. Внутренняя жизнь Надежды Львовны была известна мне только по сплетням. В уезде говорили, что лет пять-шесть тому назад, еще до своего замужества, при жизни отца, она была страстно влюблена в князя Сергея Ивановича, который ехал теперь рядом со мной в шарабане. Князь любил ездить к старику и, бывало, целые дни проводил у него в бильярдной, где неутомимо, до боли в руках и ногах, играл в пирамидку, за полгода же до смерти старика он вдруг перестал бывать у Шабельских. Такую резкую перемену в отношениях уездная сплетня, не имея положительных данных, объясняет всячески. Одни рассказывают, что князь, заметив будто бы чувство некрасивой Наденьки и не будучи в состоянии отвечать взаимностью, почел долгом порядочного человека прекратить свои посещения; другие утверждают, что старик Шабельский, узнав, отчего чахнет его дочь, предложил небогатому князю жениться на ней, князь же, вообразив по своей недалекости, что его хотят купить вместе с титулом, возмутился, наговорил глупостей и рассорился. Что в этом вздоре правда и что неправда, – трудно сказать, а что доля правды есть, видно из того, что князь всегда избегал разговоров о Надежде Львовне.
Мне известно, что вскоре после смерти отца Надежда Львовна вышла замуж за некоего Кандурина, заезжего кандидата прав, человека небогатого, но ловкого. Вышла она не по любви, а тронутая любовью кандидата прав, который, как говорят, прекрасно разыгрывал влюбленного. В описываемое мною время, муж ее, Кандурин, жил для чего-то в Каире и писал оттуда своему приятелю, уездному предводителю, «путевые записки», а она, окруженная тунеядицами-приживалками, томилась за спущенными шторами и коротала свои скучные дни мелкой филантропией.
На пути к усадьбе князь разговорился.
– Уж три дня, как я не был у себя дома, – сказал он полушепотом, косясь на возницу. – Кажется, вот и велик вырос, не баба и без предрассудков, а не перевариваю судебных приставов. Когда я вижу у себя в доме судебного пристава, то бледнею, дрожу и даже судороги в икрах делаются. Знаете, Рогожин протестовал мой вексель!
Князь вообще не любил жаловаться на плохие обстоятельства; где касалось бедности, там он был скрытен, до крайности самолюбив и щепетилен, а потому это его заявление меня удивило. Он долго глядел на желтую сечу, согреваемую солнцем, проводил глазами длинную вереницу журавлей, плывших в лазуревом поднебесье, и повернулся лицом ко мне.
– А к шестому сентября нужно готовить деньги в банк… проценты за именье! – сказал он вслух, уже не стесняясь присутствием кучера. – А где их взять? Вообще, батенька, круто приходится! Ух, как круто!