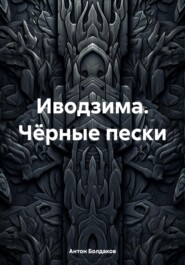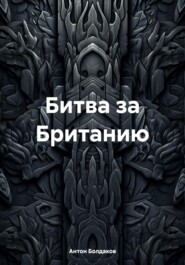По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Таящиеся в Ночи
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Ну, есть такое… А вам то, зачем это, офицер? Тоже наслушались того о чём эта Скользящая Во Тьме говорит?
– А что она говорит? – насторожилась Шэрон.
– А что она еще может говорить? Ходит по городу и рассказывает о том, что рабочие "Телеграф-стрит" ковырялись у берега Сиротки. Но это у самых гор… От нас – почти тридцать километров. – Грейсон пожал плечами. – А вообще странно, что она на этом зациклилась. Вильф и его начальник – Рамлоу, брали у нас эти карты. Они говорили, что им нужно рассчитать маршрут прокладки линии связи так, чтобы та шла в стороне от рек и ручьев, что при весенних паводках могут залить столбы и обрушить их.
Шэрон поняла, что ничего не понимает. В их Долине Гроз явно были какие-то странные дела, но она, к своему стыду, даже близко не представляла, что тут творится.
Когда она пошла к "Холерному бараку", Дафна перехватила ее и прошептала:
– Грейсон любит малину-с… Удачи, девочка.
… Врачи в "Холерном бараке" обитали на втором этаже. Причём в отличие от первых этажей, где располагались больные, на втором этаже были системы кондиционирования воздуха, снятые, по слухам, с какой-то подводной лодки. Так же там царила безукоризненная чистота, а стены были покрашены не "холерной краской" (Смесь извести и медного купороса. Примечание автора), а самой дорогой масляной краской.
Главный врач Гудевроу-сити был довольно стар, но, несмотря, на это являлся, мастером своего дела – отличный хирург и стоматолог. Так же он участвовал в Мировой Войне и обладал неплохим багажом знаний.
К сожалению, у него была неприятная привычка – он посматривал на простых людей как на мусор. Даже на Шэрон – на неё особенно, поскольку та была женщиной, что сумела добиться, каких никаких успехов в обществе. Для Эштона такое было совершенно нестерпимым. Он и думать не мог о том, что женщина – более низшее существо, чем мужчина, способна, способна добиться, чего то сама. Для Эштона Фостера такое положение дел было полным абсурдом и глупостью. Вот почему с Шэрон у него отношения сразу не задались. Особенно когда та поймала его на перепродаже неких наркотических средств. Сама Шэрон так и не поняла толком, что заставило Эштона продавать эти странные лекарства – при его то далеко не маленьких доходах.
Само собой, что Эштон этого не забыл и встретил Шэрон взглядом, способным проморозить насквозь целого кита.
– Итак… Наш офицер полиции решил посетить мою скромную работу. Надеюсь ты оценишь что я лично осматривал твоего почтенного батюшку… Хотя вряд ли, учитывая, что за недуг сразил твоего отца… Он ведь у тебя любил курить? – Эштон встал со своего знаменитого кресла, вырезанного из африканского кедра (в Египте до Второй мировой войны выращивали кедры для продажи за рубеж. Примечание автора) и обтянутого шкурой крокодила. – Табачок у него был необычный? Сам его выращивал?
– К чему вы клоните?
– Ваш отец накурился опиума. Табак в смеси с опиумом – очень сильная, как лягающийся мустанг, смесь… Поэтому у него произошло неприятное дело – временная кома.
– Кома? – Шэрон внимательно посмотрела на врача. – Кома? О чем вы говорите? Какая кома?
– Шэрон… Твой отец курил опиум, смешанный с табаком. И довольно давно, раз у него в итоге развилась кома – "смертный сон". Сейчас он как тот Рип-Ван-Винкель… Спит беспробудно. Вполне возможно, что никогда не проснётся.
Шэрон скрипнула зубами, но от, в общем-то, напрашивающегося на язык вопроса удержалась, поскольку понимала какой ответ получит.
Ее отец никогда не употреблял опиум. Хотя бы, потому что дома ему взяться было неоткуда. Поэтому Эштон задавал не простой вопрос, а вопрос с вполне ясным и очевидным подтекстом – мол, опиумный дурман своему отцу могла приносить Шэрон. Это было вполне логично с его точки зрения. Мало ли у кого помощница шерифа могла отобрать это зелье? Народ в Гудевроу-сити встречался разный – наркоманов тут тоже хватало.
– Откуда у вас такая уверенность что он курил опиум?
Вместо ответа Эштон показал кисет отца, набитый, как помнила Шэрон, отличным табаком, что ему покупала Рита. Мама обычно покупала табак у своих знакомых соседей. Однако представить, что те перепутали опиум и табак – было слишком сильно…
Однако Шэрон уже поняла, в чём дело – те кто проник в ее дом и выкрал Франсуазу не поленились подменить и табак. Причем явно этот опиум они с собой прихватили с далеко идущими целями – бросить тень на саму Шэрон.
Развернув кисет, Шэрон заглянула в него и, широко улыбнулась. Затем она припомнила свой первый танец с мальчиком и на миг погрузилась в эти воспоминания, хотя особо радоваться было нечему.
Однако этот простой психологический приём (Шэрон научил ему один из шулеров ) Оказался вполне действенным. На лице Эштона промелькнуло какое-то напряженное выражение, словно у него что-то пошло далеко не по его задумке. Правда, врач мигом с собой справился, но это выражение сказало Шэрон многое – Эштон знал, что ее отец был отравлен не опиумом, но при этом он старался убедить ее в обратном.
Для чего? Ответ был очевиден – нужно было скрыть следы пребывания Франсуазы в доме и увести следствие по ложному следу. Ну и заодно бросить тень на саму Шэрон – видимо Эштону было трудно простить ей то, как она поймала его на продаже запрещенных лекарств. Вот он и решил немного отомстить Шэрон за свой позор.
Правда, при этом бедняга явно не понимал, что его втянули в весьма некрасивую историю.
– Это не наш табак. Никто из моих соседей таким не торгует. Больше всего он похож на тот, что продают в Нью-Йорке. Там любят к табаку примешивать молотые листья клёна. Отец никогда бы такой курить не стал… – Шэрон убрала кисет в карман. – Передам шерифу. Пусть узнает, кто у нас такую траву курит. Не удивлюсь если это опять эти типы из "Телеграф-стрит"…
– Наверное, они кому-то его продали… – Эштон посмотрел на Шэрон, хитро блеснув глазами. – И не факт, что он уже изначально был с опиумом. Его явно кто-то подмешал в табак. Так что вот… Я уже написал письмо мэру, в котором изложил сии факты. Опасаюсь, что дело может закончиться плохо для тебя. От кого твой отец мог получить этот дурман?
– У меня есть сильное подозрение, что этот табак ему подкинули… Но я не буду вдаваться в подробности. Эштон… – Шэрон встала и посмотрела в глаза врачу. – Ты просто тупой, набитый соломой дурень. Ты даже не представляешь, во что позволил себя втянуть… Ты даже не представляешь… Скажи честно – что они тебе пообещали? Что переведут тебя в Нью-Йорк из нашего захолустья и дадут денег на нормальную практику? Ты дурень… Они тебя уничтожат.
На краткий миг что-то дрогнуло в лице врача. Какая-то тень сомнения и решимости…
Однако это было лишь мигом… Лицо врача снова стало суровым, и он уставился на Шэрон выпятив вперёд нижнюю губу.
– Я не понимаю о чём ты… И твой тон – возмутителен. Поверь мне, я обязательно сообщу мэру и твоему начальнику о том, как ты смеешь разговаривать со мной. Человеком более старшим чем ты! Попрошу покинуть мой кабинет. И оставь кисет своего отца. А то вдруг в нём появится совсем не то, о чем я написал в своём заключении. Понятно?
Шэрон положила кисет на стол и проговорила:
– Поверь мне – ты еще пожалеешь, что не забил этот кисет себе в глотку…
…Отец выглядел очень плохо. Он как то весь посерел и осунулся. Его кожа приобрела некрасивый оттенок – словно кожа мертвеца. И он очень тяжело дышал – причем, что было странно, дышал равномерно. Его руки похолодели и пульс еле-еле ощущался.
Однако и пульс был невероятно спокойным и ровным – он колотился с невозмутимостью метронома.
В общем, это ни капли не напоминало на так называемое "опиумное забвенье" (Отравление опиумом при котором наступает кома и смерть. Примечание автора).
– Чегой это у твоего бати на голове-то такое? – проворчала Язва – медсестра, что как раз зашла в палату. – На удар иль шрам какой смахивает люто так.
– Он в Бельгии во время Мировой Войны был – осколком ударило.
– Вон оно че… – Язва потерла жуткий шрам на лице. – На мне эта война тоже свой след оставила. Вона какой. Энто мне ипритом в рожу плеснуло. Мы тогда в бараке с раненными были – нам снаряд газовый и притащили подарок. Один чокнутый придурок из пленных – у него евоная "кукушка" в лес улетела, да его мозги с собой прихватила. Во он че учудил…
Язва склонилась к Шэрон и шепнула в ухо.
– Топай на улицу, да посиди у дверей в прачечную. И помалкивай.
Шэрон посмотрела на Язву и моргнула глазами.
…Прачечная, для стирки белья и одежды тут была своя. Стирка и сушка белья проводились прямо на территории "Холерного барака". Причём вручную.
Несмотря на то, что автоклавы уже давно и прочно заняли своё место в больницах чуть ли не всего мира, в Гудевроу-сити их ставить отказывались, поскольку Отцы Города считали, что автоклавы – советское изобретение. А стало быть, им не место в стране демократии и свободы.
Поэтому стиркой белья и одежды занимались по технологии Гражданской Войны в США – кипятили воду в котлах и использовали стиральные машинки из бочек и двигателей, снятых с автомобилей.
Единственная уступка медсёстрам была в том, что при стирке разрешали использовать стиральный порошок.
Так вот и работали – стирая в кипятке, разбавленном холодной водой и стиральным порошком одеяла, простыни и пижамы больных.
На дворе стоял 1936 год, отгремела Мировая Война, и мир стремительно развивался, но для женщин в кое каких аспектах время словно остановилось.
У прачечной было одно интересное место – у одной из стен стояли небрежно набросанные друг на друга щиты, за которыми были поставлены несколько скамеек. На этих скамейках часто отсыпались после хорошо проведенных праздников медсестры или санитары. А иногда и пациенты.
Забравшись за эти щиты Шэрон, прижалась спиной к тонкой стенке прачечной и закрыла глаза.
– Слушай сюда ушами, дочка… – донёсся из-за тонкой стенки голос Язвы. – Дело то оно некрасивое, так что держи язычок за зубами. В общем, твой отец сегодня позвонил нам и рассказал, что у вас в доме Франсуаза лежит. И что её надо срочно в больничку закинуть, так как она себя очень нехорошо чувствует…