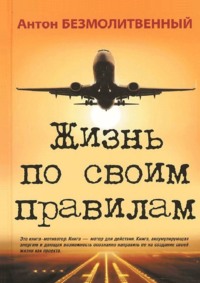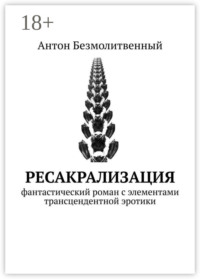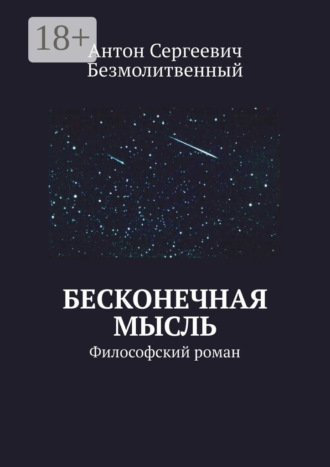
Бесконечная мысль. Философский роман
На втором уровне – который у нас с тобой неплохо выстраивается сейчас – уже осуществляется попытка пробиться к «внутреннему языку» другого, то есть описать структуру эмоциональных состояний и восприятий. Настолько точно, чтобы можно было потом с помощью описания помочь другому пережить нечто, близкое к тому, что переживаешь ты. Правда, без особой уверенности в результате.
И наконец, язык третьего уровня – это сам внутренний, или «индивидуальный», язык твоих мыслей и состояний. В некотором смысле ты постоянно общаешься на нем с собой. Например, для того, чтобы вспомнить или представить что-то. Именно он дает тебе произвольность, позволяющую закреплять для себя смыслы, переживания – и потом возвращаться к ним. Внутренний язык настолько глубок и реален, но при этом незаметен и повседневен, что передача на нем означает прямое воспроизведение в твоем сознании того, что имелось в виду. То есть ты просто видела бы, чувствовала и слышала в абсолютной точности все транслируемые с его помощью мыслеформы. И, вполне вероятно, даже без возможности определить, твои это мысли или чьи-то, индуцированные со стороны. Но опыта достижения такой глубины у обычных людей просто нет.
– Ты опасный человек, Артур, – вздохнула Олеся, подгибая колени и поправляя пляжную подстилку, наброшенную на ноги. – Пойдем уже из бассейна, становится прохладно…
…Вот и сейчас, несмотря на то, что ресепшн после завтрака буквально оплывал от жары, на ее ногах, полулотосом сложенных на диванчике, лежало белое отельное полотенце – у Олеси под кондиционером постоянно что-то подмерзало. Каждая их встреча неизменно сопровождалась элементами борьбы с прохладой: то утренней, то ночной, то вечерней – при том, что сам Артур скорее радовался возможности избавиться от вездесущего зноя.
– Привет, солнце. Ты сегодня во сколько освобождаешься? – спросил Артур.
– В районе семи. У меня экскурсия на ферму слонов.
– Опять животноводство? – улыбнулся Артур. – Ко мне вечером заскочишь? Я уже к этому времени буду свободен.
– Постараюсь. Не знаю пока, как там после сложится.
– Постарайся. Ты ведь в курсе, что сегодня Фул Мун Пати? Поедем?
– В курсе. Очень-очень постараюсь. Ну всё, чмокки. Возвращается моя паства из столовой.
Лучезарно улыбнувшись возвращающейся из столовой группе тёток с детьми, Артур отошел – вот уже месяц они с Олесей время от времени встречались у него в домике, поскольку сама она жила с соседкой, но переезжать к нему по каким-то своим причинам насовсем не хотела. Пока Артура это устраивало.
За это время у них даже успела сформироваться своеобразная традиция – после секса гулять по берегу моря и беседовать о разных вещах под звездами. В основном, после общетеоретического начала, задаваемого Артуром, разговор плавно перетекал на непростые взаимоотношения Олеси с мамой и подругами и другие психологические заморочки. Эти прогулки на некоторое время приводили Олесю в сбалансированное состояние, позволявшее, в зависимости от степени удовлетворенности, относительно спокойно идти спать либо к Артуру, либо к себе.
Упорное нежелание Олеси окончательно переезжать до поры до времени было темой необсуждаемой. Поэтому Артур и не пытался её форсировать, решив, что всё так или иначе образуется само собой – к лучшему…
– Good luck! – сказал напоследок дилер, сверкнул белками глаз и удалился.
Стафф добывался на Ко-Пангане достаточно нетривиальным образом: надо было просто подойти к ближайшему парню в дреддах и улыбнуться. Присутствующая в больших количествах повсюду полиция как бы понимала, что Full Moon Party без веществ – всё равно, что Ленин без кепки, но смотрела на это сквозь пальцы, справедливо полагая, что не стоит подрывать основу туристического процветания острова. Подразумевалось, что веселящаяся молодежь на пляже ведет себя таким специфическим образом из-за пресловутых алко-«magic buckets».
При осуществлении всего комплекса мероприятий по добыче стаффа в Таиланде Артуру почему-то неизменно вспоминалась старая советская игра «Электроника ИМ-03: Тайны океана» про подводников, которые, ускользая от щупалец огромного кракена, потихоньку подворовывали глубоководное золотишко. Судя по выражению на пиксельной морде моллюска, ему и без акванавтов было непросто, да и щупальца отрастали слишком медленно для того, чтобы всерьез кого-то поймать. В общем, интернациональному психоделическому движению на Пангане на некоторое время удалось достичь определенного баланса интересов с правящей политической системой. К вящему коррупционному удовольствию каждой из сторон.
К сожалению, не везде кракены были так сговорчивы – на Гоа, по его наблюдениям в последние годы, наоборот, неуклонно нарастала обратная тенденция «давить и не пущать»: с каждым годом индийское государство становилось всё более и более милитаризированным, а полиция – все жестче и злее по отношению к иностранцам. В Таиланде же, несмотря на обилие американских фильмов, повествующих о жестокости и засилии полицейского произвола, эволюция скорее протекала в обратном направлении. Артур задумался, почему это так.
Действительно, в конце 90-х вышла целая плеяда голливудских муви – «Пляж», «Разрушенный дворец» и т. д. – цель которых, похоже, заключалась в том, чтобы отучить американское население от отдыха в Таиланде и переориентировать его на «родные» Гавайи и Филиппины. Учитывая, что до этого времени Тай был союзником США – достаточно вспомнить о том, что разврат и грязь, ставшие своеобразной визитной карточкой Паттайи, явились последствием дислокацией там военно-морских баз в 60-70-х, с которых стартовали вертолеты и корабли в период вьетнамской войны – должно было произойти что-то существенное, но, как и все серьезные события, малозаметное со стороны, что и охладило отношения между двумя государствами ближе к концу века.
Однако это охлаждение определенно пошло Таиланду на пользу: в отличие от тех же Филиппин, в которых молодежь поголовно мечтала свалить в Штаты, тайцы за пределы своей страны особенно не стремились – в стране действительно было хорошо, и уезжать отсюда совершенно не хотелось. В очередной раз благодаря мудрости тайских дипломатов Сиам сумел невредимым проскочить между щупалец мирового гегемона и сохранить обретенное золотишко. Вместе со своей нативной культурой, религией и расслабленно-созерцательным отношением к жизни…
То ли стафф оказался на этот раз каким-то специфическим, то ли физиологическое состояние как-то странно наложилось на внешнюю суету и неистовый хоровод огней, но Олеся, обычно любившая надолго зависать на подобных вечеринках, уже через 30 минут после начала танцев запросилась в тишину и уединение.
Отель, в бассейне которого они так удачно провели ночь в прошлый раз, на этот раз был заполнен людьми, ярко освещен и тщательно охранялся. В результате, потыркавшись некоторое время по шумным окрестностям Хаад Рина, они осели в кафе под названием «Better than sex», куда долетал только отдаленный «тынц-тынц» – выцветший отголосок безумия, творящегося на пляже. Зато из этого заведения открывался прекрасный вид на по-настоящему полную луну и всю тяжесть тел, вне зависимости от их состояния, были готовы принять на себя невероятно удобные пуфы.
Здесь Олесю и накрыло. Артур же напротив, ощущал традиционный в таких случаях эмоциональный подъем и бодрость мысли. Весело и искрометно подшучивая над окружающими их персонажами, он почувствовал, что Олеся начинает уплывать куда-то в тёмные и мутные глубины своих проблем и рискует совсем утонуть, если не поддержать словесными опорами слабеющий огонек ее мысли и не придать эмоциям правильный вектор.
– Помнишь, в прошлый раз в бассейне мы говорили о качественных различиях к восприятию реальности? – неожиданно-серьезно спросил он.
В ответ Олеся неопределенно, но скорее утвердительно боднула головой воздух.
– Так вот, я думаю, сейчас, в этом состоянии, тебе очевидно, что qualia отличают не только одно сознание от другого, но и разные состояния одного и того же сознания во времени.
Олеся перевела остекленевший взгляд на отблеск луны на поверхности моря, и Артур, ничуть не смущаясь, продолжил:
– Так вот. Я предлагаю для удобства называть то, что отличает именно это состояние, именно этот момент, нуминозностью. Нуминозность – это аспект восприятия мира, обладающий неповторимостью. Это определенный способ смотреть, чувствовать, вдыхать аромат реальности, по которому ты могла бы опознать, кому именно принадлежит восприятие, если бы каким-то чудом смогла оказаться в голове у другого. А находясь в своей голове ты опознаешь по нему конкретный момент, в который это восприятие имело место.
Получается, что способ восприятия является действительно непередаваемым с помощью обычного конвенционального языка и абсолютно запредельным для другого человека – в своей нуминозной части. А вот в структурной своей части он вполне передаваем – и это в действительности происходит: с помощью книг, фильмов, музыки. Искусства в широком смысле.
Олеся с трудом разлепила губы, стараясь сделать интонацию вопросительной:
– И?
– Нуминозным вполне можно также назвать сложный интегративный фон, который называется «духом эпохи». Например, научно-фантастические советские психоделические мультики 70-х или шпионско-патриотические фильмы 80-х выступают чистой нуминозностью для западного человека – потому что порождающая их структура восприятия построена на совершенно иных принципах, резко отличающих феноменологический мир homo soveticus от любого другого, и сами эти фильмы ее не проблематизируют, не стремятся объяснить, а просто подразумевают. А иногда и гипертрофируют, используя и доводя до художественного совершенства: ведь супервысокотехнологичный конспиративный совок, вполне вероятно, в реальности не существовал в восьмидесятых нигде, кроме сознания зрителя, в голове которого еще долго звучала музыка Эдуарда Артемьева после просмотра сериала «ТАСС уполномочен заявить». Это станет еще более очевидным, если рассмотреть особую трансцендентность советского космоса, составляющую фон мультфильмов наподобие «Фаэтон – сын Солнца». На примере структурной нуминозности такого рода, разделяемой некоторой группой, можно легче понять идею нуминозности личной, для которой нет общего языка и других средств передачи.
Артур коротко взглянул на молчащую Олесю и продолжил:
– И вот о чем я, собственно, хочу сказать: что если глубина и уникальность этой нуминозности определяет ценность отдельно взятого человеческого существования? Ведь именно она является абсолютным различителем, индивидуализирующим каждого. Всё, что сделано тобой в жизни, но не запечатлело на себе отпечатка твоей нуминозности, с таким же успехом могло быть сделано кем-то другим, а значит, не является по-настоящему и неоспоримо твоим, неотъемлемым от тебя вкладом в реальность. Понимаешь?
Олеся медленно кивнула. Остановившийся взгляд и расширенные зрачки говорили о том, что всё сказанное воспринимается достаточно глубоко.
– Продолжай, – прошептала она.
– Получается, что любой субъективно значимый смысл, способный индивидуализировать тебя как человека, неизбежно связан с запечатлением этой нуминозности, то есть… творчеством. А что такое творчество? Творчество – это создание новых структур. Нуминозность это основа любого творчества, его порождающий базис, который выражается в музыкальных, художественных, социальных и каких угодно еще структурах. Ну или не выражается – и тогда реализуется только внутри ума.
– Значит, по-твоему, жизнь всех, кроме творцов, бессмысленна? – Олеся на глазах оживала и приходила в себя.
– Конечно, нет. Бывает, она просто не является реализацией нуминозного проекта. И если это не так, то придание своим действиям уникального смысла и будет являться творчеством. Чтобы проще это понять, давай рассмотрим пример со строительством отеля. Вот, смотри, какой красивый стоит, – Артур показал рукой на ломаный, причудливо искромсанный прожекторами силуэт ближайшего крупного здания. – Скажи, что нового привнесли в мир, создали рабочие, которые его строили?
– Наверное, кирпичи, – предположила Олеся.
– Нет, кирпичи создавались на заводе. И рабочие всего лишь перекладывали их из одного места в другое, скрепляя раствором, который тоже произведен не ими. А бригадиры – что создали они?
– Не знаю.
– Хорошо, есть ли кто-то, кто гарантированно создал что-то своё, воплотив его в мир с помощью этого отеля?
– Архитектор?
– Да! Именно. Архитектор, – кивнул Артур. – А что именно он создал?
– План, проект.
– Умница! План-проект. И в том случае, если он не был слямзен под копирку у коллег по цеху, а действительно содержал в себе элементы нового – это и было проявлением творчества архитектора. В результате сейчас мы с тобой возлежим на пуфах и обсуждаем его. Итак, творческим при строительстве здания является создание нематериальной структуры – проекта, по которому оно затем возводится. Не перетаскивание кирпичей из одной кучки в другую – это уже действия по воплощению, – а именно акт появления нового, произошедший в сознании конкретного человека. В строгом смысле ни одной частицы материи мы не можем просто создать из ничего, мы способны только перемещать их и бесконечно рекомбинировать. Единственное, что мы можем сотворить по-настоящему, что целиком является проявлением нуминозности – это мысль, структура, план, проект. В общем, нематериальное. Абсолютно то же самое верно и в отношении жизни в целом.
– Тогда я себя чаще всего ощущаю не архитектором и даже не инженером-проектировщиком, а вахтершей на складе воспоминаний своей жизни, – с мрачной улыбкой пошутила Олеся.
– Что тут можно сказать? Значит, можно начинать с творчества по их каталогизации, – улыбнулся Артур. – А потом двинуться дальше, преодолев причину недоверия к своей нуминозности и страха её раскрыть.
– А как её раскрыть?
– Объяснить, тем более словами, при всем желании никто тебе не сможет – это же твоя нуминозность. Можно сказать, твой личный квест, и надо его просто взять и пройти. Однако один бессмысленный совет дать все-таки можно: попробуй представить себе жизнь как вдох. Невероятно глубокий, затянувшийся сладостный вдох перед неминуемым погружением в смерть. Упоительную попытку втянуть в себя, вобрать весь кислород, которого потом уже никогда не будет…
Олеся, забавно вытаращив глаза, начала со свистом набирать полный рот воздуха, по-хомячьи округлив щеки, а потом резко выпустила его и со смехом закашлялась. Это было настолько нелепо-точным соответствием метафоре и одновременно действительно содержало в себе неиллюзорное проявление пресловутой нуминозности, что Артур буквально растянулся на своем пуфе от хохота. Ржач и конвульсивные подергивания продолжались накатами у обоих еще несколько минут – афтепати определенно удалось.
Великий кадастр

После того, как вечеринка у бассейна закончилась, Артур и Олеся лежали на теплой крыше отеля, обнявшись и глядя на звезды. Настроение было приподнятым, безмятежным, располагающим к расслабленному ничегонеделанию с легкими обертонами возвышенности.
– Представь себе, как на эти звезды смотрели наши далекие предки… – начала Олеся.
– Мне кажется, для них это было совершенно другое зрелище, – с улыбкой ответил Артур. – Без огней вездесущего ночного освещения смотрели они на созвездия зоркими глазами, пурпур которых еще не успел выцвести от экранов, угадывая за каждой звездой свой особый мир. И делясь друг с другом догадками о том, какой он.
– Ну уж нет, – покачала головой Олеся. – Это сейчас мы видим за звездами миры. А они – вряд ли. Скорее всего, даже не подозревали, что это огромные расплавленные шары.
– О шарах – конечно, не подозревали. Зато это позволяло им выстраивать в воображении миры значительно более причудливые и изощренные, чем создаваемые обучающими сериалами BBC. Например, представлять себе, как Гераклит, что звезды – это дырочки в темной материи неба, приоткрывающие белую субстанцию подложки. А ты действительно веришь в научный прогресс? – достаточно неожиданно повернул к ней голову Артур.
– По крайней мере теперь мы не верим в богов, духов и прочих мифологических персонажей подобно тоже же Гераклиту, – откликнулась Олеся.
– Ой ли? – улыбнулся Артур. – Разве ты не замечала, что мифология давно перекочевала в министерства, ведомства и кабинеты, благополучно воспроизводя себя в административном аппарате? Божества архаики спокойно проникают в реальность через приоткрытую заднюю дверь коллективного бессознательного гос. образований. Самые важные события в жизни людей протекают под эгидой этих всемогущих метафизических сущностей. Например, ЗАГСа.
– А, ты об этом! Да уж, меня всегда удивляла эта странная казенная мифология, – подхватила мысль Олеся. – И примеров-то довольно много. Один только Главк чего стоит!
– Главк… – как бы пробуя на вкус и смакуя это слово, протянул Артур. – Прямо-таки древнегреческое божество… И ведь это только верхушка айсберга. Помнишь старый социалистический анекдот: «Раньше восклицали „Слава великому Августу“! Теперь – „Слава великому Октябрю“»!
– Это и впрямь странновато. Особенно, когда видишь табличку наподобие «проспект 60-летия Октября». В этом случае Октябрь самопроизвольно читается не как название месяца, а как имя мифического героя или, в крайнем случае, императора.
– Ага. И это далеко не всё. У нас же существуют целые региональные пантеоны. Только вдумайся, насколько богата мифология, в которой обитают ОКАТО, ОКУД, БИК, ОГРН, ЕГРЮЛ. КУДИР, в конце концов! До конца непонятно, то ли это названия божеств, то ли заклинания.
– Больше похоже на заклинания. Но если это примеры обращения к высшим силам в рамках серой магии, то существует еще одна ветвь – откровенно черные заклятия: МРЭО, ГИБДД, КПЗ, СИЗО, ШИЗО. Сюда же можно присовокупить ОМОН и ОБЭП, – немного подумав, внесла свою лепту Олеся.
– Не то слово. Есть еще и стигматизирующая ветвь: проклятия, которые определенные категории населения носят на себе как клеймо. Особенно повезло в этом плане адептам Минобраза, то есть учителям, я хотел сказать. Чего стоит сакраментальное: «Простите, я не педорг, а педобраз из МУДО»? При том, что расшифровывается эта мудреная сентенция всего лишь: «Я не педагог-организатор, а педагог дополнительного образования из муниципального учреждения дополнительного образования».
– Да, видимо на этом жизненном пути не обошлось без Педучилища, – хохотнула Олеся.
– Помню, был такой мультфильм «КОАПП» про мартышку и леопарда. Никогда не забуду слезы смеха, которые при просмотре этого мультика буквально лились из глаз пьяненькой главбушки Евгеши – знакомой моей матери, – задумчиво произнес Артур.
– И не говори. Кстати, само слово «главбушка» тоже относится к этой категории. Живущих под властью рока в виде Кодекса об Административных Правонарушениях. Неудивительно, что смех всегда был именно сквозь слезы.
– Но, согласись, венчает пирамиду этой иерархии локальных божеств Великий Кадастр! Я даже наблюдал в 90-е, как люди в министерствах и ведомствах поднимали за него тосты! Без шуток! Натурально чокались, далее звучало обязательное воззвание к Великому Кадастру и следовали обильные возлияния в его честь. Причем, со временем одни божества становились более популярными, а другие – менее. А Кадастр оставался. Видимо, название настолько звучное, что совершенно естественно занимает свою верхнюю полку в коллективном бессознательном.
Вообще, это самое коллективное бессознательное чиновников весьма любопытно эволюционирует: если анализировать смену аббревиатур при переходе от советской ментальности к постсоветской, можно сделать вывод о наличии определенного тренда в сторону многобожия. Отчетливо выраженная монотеистическая вертикальная иерархия, пронизывающая собой эпохальное противостояние «Ад. Центра и Рай. Центра» при совке, сменилась в девяностые и нулевые почти индуистской феодальной раздробленностью множества мелких и ведомств и комитетов регионального значения. Теперь же наблюдается обратный откат в сторону централизации, что совершенно четко коррелирует с наметившейся тенденции к установлению православия в качестве государственной религии.
Существуют еще и профанические «опилки», остающиеся от работы этой системы и знаменующие собой окончательную диссипацию верхних этажей коллективного бессознательного: например, неологизмы уровня «Бомж». Не все знают, но это звучное словцо произошло всего лишь от казенной аббревиатуры «без определенного места жительства». Или из совсем уж недавних изобретений – «пухто».
– Что? – переспросила Олеся.
– Пухто.
– Что это? Похоже на деда Пихто.
– Никогда не догадаешься. Пункт утилизации и хранения твердых отходов! – с тщательно имитируемым канцелярским торжеством провозгласил Артур, патетически воздевая палец к небу.
– Да уж. Как много в восприятии мира зависит от языка…
– Даже больше, чем принято полагать. Огромное количество малопонятных вещей вокруг нас объясняется достаточно просто, если знать лингвистическую историю их происхождения.
Например, традиционная для русской шизотерики «борьба с умом» объясняется достаточно изящно, хотя и несколько запутанно:
Дело в том, что английское «consciousness» – сознание – очень похоже по звучанию на «cautiousness» – опасливость, бережливость, настороженность. Именно поэтому англо-американский нью-эйдж, основанный на достаточно плоско понятых переводах с пали и санскрита, однозначно растолковал то, что делают правоверные буддийские монахи, как «борьбу с умом». В действительности же в нативном варианте борьба скорее должна вестись с беспокойством и омрачением ума, однако, поскольку существование не обеспокоенного ума просто не вписывается в англо-саксонский языковой менталитет, при переводах переводов с английского на русский этот аспект был уже попросту утерян.
Так изначальная буддийская работа с обеспокоенностью ума вследствие цепочки топорных переводов элегантно превращается… в борьбу с умом как таковым. При наложении же на русскую ментальность этот момент в наших шизотерических школах вообще стал самым главным, обретя прямо-таки исступленную беспощадность – поскольку выступил символом отчаянного сражения русского за свою идентичность с симулякром «чуждого», надуманного, западного. Так русский ум стал сражаться с самим собой посредством английских переводов буддийских текстов с пали через тибетский. Добро пожаловать в постмодернистскую современность.
– А что, изначально в буддизме действительно не было момента борьбы со своим умом? – поинтересовалась Олеся.
– Борьбы – однозначно нет. Ум воспринимался, да и воспринимается по сей день, говоря современным языком, как устройство, наподобие компьютера. И одна из задач, с ним связанных, заключается в обеспечении хорошей, устойчивой и бесперебойной работы всех схем и элементов. Беспокойство, негативные эмоции и прочие глюки, вызванные переданными по наследству вирусами, воспринимаются именно как помехи, а не как само существо компьютера. И это проявляется в нескольких значимых моментах. Фигурально выражаясь, помимо задачи деинсталляции вредоносных программ, прошитых глубоко в бессознательном практика, для достижения идеальной работы всей системы требуется еще и установить затем рабочее ПО, обрести полноценный доступ к арсеналу «умелых средств». Т.е. без послушного, отлаженного, корректно работающего ума достижение просветления крайне маловероятно.
– Какой-то прямо совершенно другой буддизм.
– Именно. Совершенно другой. К сожалению, насчет буддизма вообще бытует невероятное количество разнообразных заблуждений.
Например, относительно контроля над мыслями. На Западе при осмыслении психических процессов привычно используют следующую секвенцию: от неосознанной некомпетентности по отношению к чему-то – к осознанию этой некомпетентности, далее – к осуществлению осознанных действий по обретению компетентности, и затем – к переводу этих действий в режим бессознательной компетентности, что считается вершиной всей цепочки.
Для продуктивной же работы с уровнем осознанности, предполагаемым буддийскими практиками, должна иметь место другая последовательность: от полной неосознанности к бессознательному контролю, затем – к сознательному контролю, и наконец – к постоянному актуальному осознаванию.
– Довольно интересно. Можешь пояснить? – попросила Олеся.
– Это похоже на углубление навыка владения каким-либо языком. Сначала ты им вообще не владеешь, затем – в том случае, если речь идет о родном языке – владеешь бессознательно, но вполне уверенно, исключая только некоторые особенно заковыристые его аспекты, затем – пытаясь осмыслить эти аспекты и постепенно постигая скрытую за ними механику – начинаешь сознательно выстраивать новое, углубленное понимание языка, и наконец – переходишь к актуальному осознаванию того, как работают эти глубинные структуры в тебе прямо сейчас, параллельно с формулировкой высказывания.