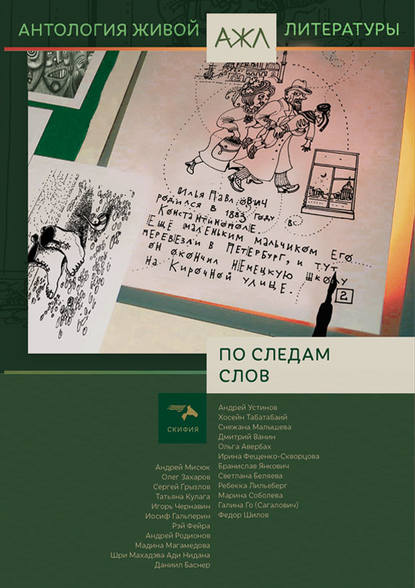По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
По следам слов
Автор
Год написания книги
2018
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Неужели очаг разгорелся еще сильнее?! Красные угли следили из пепла за происходящим и медленно рассеивали тьму в комнате. Дрожащей от усталости рукой я взял игрушку. Индеец покалывал меня своим копьем и щекотал пластиковыми перьями, торчащими из его волос.
Я обернулся.
Передо мной стояла девочка лет десяти. Она была одета в пижаму с подвернутыми рукавами и штанинами, вероятно, доставшуюся ей от кого-то из старших. Она дрожала от холода, потирая плечи. Ее легкие светлые волосы развевались, словно от какого-то незримого ветра. Но ветра не было. Лишь холод и расползающийся по комнате запах дыма. Она смотрела на меня большими глазами, не отрываясь, словно хотела запомнить всего меня, каждую мою морщину, каждый седой волос, каждое движение в лице. В глубине ее взгляда таилась улыбка. Но все равно в голове моей еще длился отзвук ее печального голоса. Она отчаянно прижимала к груди куклу. Как мать своего ребенка.
– Вот… Закутайся в это.
Я скинул с плеч свой плащ и почти всю ее накрыл им.
– Он пахнет плесенью и сыростью.
Мы вместе рассмеялись.
– Я весь год храню его во влажном подвале. Он и не может пахнуть по-другому. Но он теплый.
– Да. Мне и правда больше не холодно.
Ее волосы рассыпались по красной ткани.
– Как ты это делаешь?
– Что?
– Чинишь куклы.
Она покачала головой.
– Не делаю я этого, они сами.
Она произнесла это спокойно, как само собой разумеющееся, и взяла куклу из моей руки. Она поцеловала ее.
– Просто им надоедает быть куклами для бедных детей. Они тоже не хотят терпеть нашего горя и несчастий, поэтому пытаются хоть немного осчастливить нас тем, что поправляются. Вот этот вождь даже научился говорить, чтобы утешать меня, когда я грушу.
– Вот только не выдумывай! Куклы не умеют говорить. Я это точно знаю. Я так долго уже работаю с ними.
– Говорят, говорят. Просто ты никогда не грустил, дедушка. Ты слишком много смотрел на счастливых детей. Ничего ты не понимаешь. Глупый ты, дедушка.
Она запрыгала по комнате, путаясь в моем плаще. Ее волосы снова стали развеваться на невидимом ветру. Она радовалась. И вождь в ее руке радовался вместе с ней.
– Глупый, глупый, глупый!
– А где мой подарок?
Она хлопнула ладонью себя по лбу. Потом скинула плащ и убежала в другую комнату. Я посмотрел на очаг: угли сияли, как лава просыпающегося вулкана, и в комнате уже не было так холодно. Я стал искать взглядом что-то, чем можно было бы разжечь огонь. Ничего такого не находилось: все поленья уже сожгли. Я открыл сумку в поисках деревянных кукол. Тех, что были для детей богатых родителей. Они должны хорошо гореть, уносясь в небо вместе с дымом…
А потом меня накрыла какая-то тень. Тень чего-то страшного. И я проснулся.
Надо мной склонился начальник нашего лагерного барака и смотрел на меня злыми глазами. Он сказал тихо и грозно:
– Дед! Эй, дед! Пошли на улицу. Новый год.
Я дрожал от холода январского утра. Боли, отступившие во время сна, снова стали мучить меня. Впадина на месте потерянного два месяца назад глаза ныла. Новый год! В концентрационном лагере времени не существует. Да и праздники здесь не празднуют. И ничего нового нет. Я снова закрыл глаза, зная, что тем самым могу лишь вывести его из себя и заработать оплеухи и удары. Две секунды сна стоят ударов. Две секунды в прекрасном месте. Теплом, счастливом, у огня. С дорогими людьми. Чудесными. В доме девочки и ее бедных родителей.
– Что ты пристал ко мне, злодей! Отстань от меня, животное! Будь хоть раз человеком и дай мне попрощаться с людьми из моего сна. Неприлично уходить, не попрощавшись.
Мои оскорбления его не тронули, и он не ударил меня. Он засмеялся и дал мне знак встать.
– Дед… Какой-то ребенок стоит у забора, разделяющего два наших лагеря, и кричит, что должен передать подарок. А насколько я знаю, ты здесь самый старый. Самый старый живой. Остальные старики давно померли от холода, голода и истязаний. Один ты, дед, остался.
Я вскочил с доски, служившей мне кроватью. Как юноша, спешащий на свидание к возлюбленной, как тигр, еще недавно выслеживавший добычу, как стремительный летний дождь, помчался я к воротам барака. С дрожащими коленями я бежал к колючей проволоке. Деревянные лагерные башмаки спадали с моих ног, но в спешке я не замечал этого. Там, во дворе другого лагеря, в утренних испарениях и дыме из трубы крематория, который, вместо того чтобы улетать в небо, стелился по земле, виднелась маленькая фигура. На ней была форма заключенного с подвернутыми рукавами и штанинами. Голова была налысо побрита. Под большими голубыми глазами виднелись тяжелые черные круги. Ей было лет десять. Увидев меня, задыхающегося, бегущего к ней, она улыбнулась.
– Глупый дедушка. Глупый. Потерял башмаки.
– Ты из моего сна?!
– А почему ты думаешь, что и это не сон?
– Во снах нет боли.
– Бывают и страшные сны.
– Но в них мы всегда просыпаемся. А из этого нам не выбраться.
– Я пришла подарить тебе подарок.
– Какой подарок ты можешь подарить мне здесь, когда ни у тебя, ни у меня ничего нет?!
– Есть.
– Что?
– Есть мы.
Она просунула ручку между прутьями забора и коснулась моего лица. Она гладила своими худыми, костлявыми пальчиками глубокие, доставшиеся мне от всех пережитых невзгод морщины. Потом она положила указательный палец во впадину, где когда-то был мой левый глаз.
– Поправляйся, дедушка.
Вернувшись в барак, подгоняемый криками и ругательствами эсэсовцев, я вспомнил свое имя. Так холодно мне больше не было. Счастливого Нового года!
Духи и матери
И этой ночью над фронтом снова блуждают духи. Бледные фигуры призраков, словно пьяные, словно потерявшиеся птицы, словно кошмарные сны, словно постиранные рубахи – колышутся на ветру. Но ветра нет; лишь случайная ночная бабочка может потревожить воздух и всколыхнуть тьму. В ту ночь звездное небо проявлялось на фоне призрачных фигур, поэтому казалось, что фигуры эти сотканы из серебра. Только лишь глаза духов были черными, в них не было света звезд. Никто другой, кроме меня, их не видел, а они как будто понимали это и вот уже третью ночь приближались ко мне и пожирали меня своими взглядами без проблеска света. Их рты искривлялись в тщетной попытке породить что-то наподобие крика, визга, а может быть, они пытались прочитать молитву, но я ничего не слышал. Я навел свое ружье в темноту. Я стоял в карауле. Салоникский фронт. Окопы и грязь. Порох и кровь.
– В кого целишься, Станко? – спросил меня Радован, мой товарищ по караулу, подходя ко мне. – Враг не осмелится выступить при такой луне. Посмотри на нее: словно круглый противень. Но наша луна все-таки лучше, чем эта, греческая.
Я опустил ружье и расхохотался, вызвав тем самым удивление и духов, и Радована, искавшего сигареты по карманам формы. Духи закружились вокруг парня из моего села в танце, известном лишь им одним. Они рассматривали его со всех сторон, пролетали между его ног, вились вокруг ушей, хватая его своими бесплотными руками за лацканы формы. Некоторые даже пролетали сквозь него, заставляя парня икать.
– Иди спать, Радован. Нет смысла бодрствовать обоим. Болгары не пойдут, – сказал я ему и взял предложенную сигарету. – Эта ночь будет мирной. Гарантируем оба: луна и я.