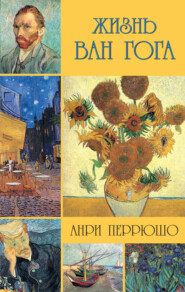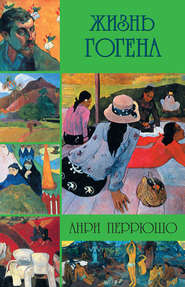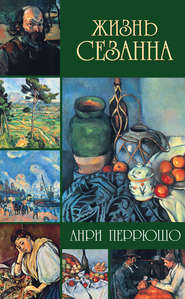По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Жизнь Ренуара
Автор
Жанр
Серия
Год написания книги
1963
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Моне не придавал никакого значения названиям своих картин. Он и это название обронил мимоходом, не предполагая, что от него родится – на радость и на горе – слово «импрессионизм».
II
«Ле Мулен де ла Галетт»
Дитя мое, в конце концов всегда оказываешься прав – весь вопрос в том, чтобы не сдохнуть раньше времени.
Арпиньи
Выставка открылась в назначенный день. Продолжалась она целый месяц, до 15 мая. Вход стоил один франк, каталог пятьдесят сантимов. Смотреть ее можно было не только с десяти до восемнадцати часов, но и по вечерам, с двадцати до двадцати двух часов.
Кроме одной пастели и шести живописных полотен Ренуара, среди которых были «Танцовщица» и «Ложа», в залах были выставлены работы других батиньольцев, молодой приятельницы Мане Берты Моризо (она позировала для его «Балкона») и художников, приглашенных «со стороны», которые образовали довольно пеструю по составу группу. Буден, один из мастеров старшего поколения, «король неба», как прозвал его Коро, соседствовал здесь с Джузеппе Де Ниттисом, итальянским художником, выставляющимся в Салоне; Дега повсюду его восхвалял с коварной целью умалить достоинства некоторых батиньольцев[50 - Со слов Жоржа Ривьера.] (но кто мог попасться на эту удочку?). «Поскольку вы выставляетесь в Салоне, – заявил Дега Де Ниттису, – плохо осведомленные люди не смогут сказать, что на нашей выставке представлены только отвергнутые».
Тщетная предосторожность! Как ни надеялся Дега, что участие Де Ниттиса послужит гарантией их общей благонамеренности, оно не могло затушевать того, что выставка эта, необычная сама по себе, была организована вне рамок официального искусства. «Особняком, но рядом с ним», – уверял Дега[51 - Он писал незадолго до этого: «Реалистическому движению нет больше нужды бороться с другими. Оно есть, оно существует и должно выставляться особняком. Должен существовать Реалистический салон».]. В противовес ему, считали окружающие, и это куда более соответствовало действительности. Провозглашение независимости от метров Салона и от всего, что в их лице, в их творчестве признавали, хвалили и уважали, казалось и смешным и подозрительным одновременно. Подозрительным, потому что свидетельствовало о «дурном направлении умов», отчасти наводившем на мысль о коммунарах и Курбе, этом «негодяе и разрушителе».
С первых же дней залы на бульваре Капуцинок наводнила шумная, возбужденная толпа, которая всячески выражала свое неодобрение, иногда насмешливое и презрительное, иногда раздраженное. Посетители[52 - Они были довольно многочисленны: всего зарегистрировано 3510 посетителей, заплативших за вход. В первые дни ежедневно приходило до 200 человек.] не задерживались у картин Де Ниттиса или какого-нибудь Мюло Дюриважа. Они толпились у полотен Моне, Ренуара, Сезанна, Писсарро, Сислея и Дега – всех тех, кто этой групповой выставкой внезапно заявил о существовании нового искусства. Неожиданный расцвет. Он медленно подготавливался в тени минувших лет, и теперь вдруг точно брызнул весенний свет, развеявший зимний сумрак. Непостижимый расцвет. Эта живопись, порывающая со всеми условностями академического искусства еще более решительно, чем живопись Мане, не могла не шокировать. Ее «не понимали». Да и были против нее слишком предубеждены, чтобы пытаться ее понять. Впрочем, мазня этой «банды» – трудно поверить, но словечко пустил в ход сам добрейший Коро – превосходила всякое воображение. Глаза, привыкшие к безликой академической продукции, к добросовестным, но пустым ремесленным поделкам, выполненным бездарными руками, видели в этих полотнах одну только размалеванную пестроту. Здесь и не пахло кропотливым трудом. «Непримиримые» (так прозвали батиньольцев), по утверждению зубоскалов, просто выстреливали по полотну из пистолета, заряженного тюбиками с краской, после чего им оставалось только поставить подпись на своих шедеврах.
«Ох и тяжелый день выпал на мою долю, – писал в „Ле Шаривари“ от 25 апреля критик Луи Леруа, – когда я отважился пойти на первую выставку, открытую на бульваре Капуцинок, вместе с г-ном Жозефом Венсаном, пейзажистом, учеником Бертена, удостоенным медалей и наград при различных правительствах! Неосторожный отправился на выставку, не подозревая ничего дурного. Он предполагал, что увидит живопись – такую, как везде, хорошую и плохую, чаще плохую, чем хорошую, но которая не покушается на добрые художественные нравы, на культ формы, на уважение к великим мастерам. Ох уж эта форма, ох уж эти мастера! Да кому они нужны, старина? У нас теперь все по-другому.
Войдя в первый зал, г-н Жозеф Венсан получил первый удар – нанесла его „Танцовщица“ г-на Ренуара.
– Как жаль, что художник, наделенный некоторым чувством цвета, так плохо рисует. Ноги его балерины кажутся такими же пушистыми, как ее газовые юбки.
– Вы очень строги к нему, – возразил я. – Наоборот, рисунок у него слишком жесткий.
Ученик Бертена, решив, что я иронизирую, вместо ответа только пожал плечами…»
И Луи Леруа продолжал осматривать залы, высмеивая поочередно пейзажи Моне и Сислея, «Дом повешенного» Сезанна, «Прачку» («столь плохо отстиранную») Дега. Свою статью он озаглавил «Выставка импрессионистов». Так он прозвал «непримиримых», обратив внимание на название морского пейзажа Моне «Впечатление. Восход солнца».
Впечатление. Восход солнца
«Впечатление, так я и знал. Я говорил себе: раз уж я под впечатлением, должно же там быть что-то запечатлено. Рисунок на обоях в зачаточном виде и то выглядит более законченным, чем эта, с позволения сказать, марина!»
Конечно, раздавались отдельные голоса в защиту вышеупомянутых импрессионистов[53 - Филипп Бюрти писал о Ренуаре в «Ла Репюблик Франсез» от 25 апреля: «Г-ну Ренуару суждено большое будущее… Юная балерина поражает своей гармонией, „Парижанка“ хуже, „Авансцена“ (речь идет, несомненно, о „Ложе“), в особенности при зажженном свете, создает полнейшую иллюзию. Неподвижное набеленное лицо дамы, ее руки в белых перчатках: в одной она держит лорнетку, другая утонула в муслине платка, голова и торс обернувшегося мужчины – отлично написанные куски, достойные внимания и похвал».]. Но голоса эти были редкими, едва слышными. Общее мнение сошлось на том, что жертвы Леруа – его статья получила широкий отклик – «объявили войну красоте»[54 - Жюль Кларети.].
Ирония, насмешки, скандальное прозвище, тут же подхваченное публикой, – вот и все, чего импрессионисты (будем их так называть) добились за месяц выставки, от которой они так много ждали. Отныне им станет еще труднее что-нибудь продать. Надежды, которыми они себя тешили, рухнули. Теперь не многие коллекционеры польстятся на их картины: прозвище «импрессионист» – это позорное клеймо.
Хорошо было тем батиньольцам, которые были людьми состоятельными или хотя бы располагали средствами к существованию! Но для тех, кто, как Ренуар, мог рассчитывать только на самого себя, настал критический период. Камилю Писсарро в том же году пришлось воспользоваться гостеприимством своего друга художника Лудовико Пьетте в Майенне, в Монфуко. Моне и Сислей (отец которого разорился в 1871 году и вскоре умер) не знали, как они прокормят свои семьи.
Ренуар легче своих друзей переносил трудности. А между тем он лишился поддержки семьи Ле Кер. Влюбившись в старшую дочь Шарля, шестнадцатилетнюю Мари, Ренуар летом послал ей письмо, которое перехватили. Жюль и Шарль отказали художнику от дома. Но у Ренуара было преимущество перед его друзьями пейзажистами: он писал еще и портреты. Хотя заказов было немного, они все же помогали ему сводить концы с концами[55 - К этому периоду относится портрет жены музыкального издателя мадам Артманн – в настоящее время находится в Лувре.].
В разгар сезона Ренуар несколько раз приезжал к Моне в Аржантей. Аржантей становился подлинным центром импрессионизма. Эдуар Мане поселился на лето в Жаннвилье. Очарованный полотнами Моне и в свою очередь покоренный пленэром, он часто переправлялся на противоположный берег Сены, чтобы писать в обществе своего младшего товарища по искусству. Работы Ренуара он ценил, как видно, куда меньше. Однажды, когда в саду у Клода Мане он писал мадам Моне и ее сына, пришел Ренуар; ему тоже понравился этот мотив, и он стал за мольберт. Возможно, это задело Мане; он, морщась, поглядывал на картину Ренуара и в конце концов шепнул Моне: «Послушайте, этот малый начисто лишен дарования! Вы его друг, вы должны посоветовать ему бросить живопись. Вы же сами видите – не его это дело»[56 - Адольф Табаран сомневается, чтобы Мане когда-нибудь произнес эти слова. Но на них ссылаются и Моне, и Ренуар.].
На почве интереса к парусному и гребному спорту (у Моне была теперь своя лодка-мастерская, как у Добиньи) импрессионисты Аржантейя свели знакомство с Гюставом Кайботтом, страстно увлекавшимся речным судоходством. Гюстав Кайботт был моложе их – ему исполнилось двадцать шесть лет. Холостяк из богатой семьи, совершенно независимый, Кайботт жил на роскошной вилле в Пти-Жаннвилье и там ради собственного удовольствия строил один парусник за другим. Еще немного, и у него образовалась бы целая флотилия. Ради удовольствия он занимался и живописью. За год до этого он некоторое время посещал уроки Бонна в Школе при Академии художеств, но академизм быстро ему наскучил. Живопись Мане, Моне, Ренуара, которую он теперь открыл, привела его в восторг. Как большинству людей, которых судьба с самого начала слишком баловала и которым не суждено было узнать, что такое борьба за существование – этот путь через триумфальную арку нужды, Кайботту до сих пор удавалось лишь приятно проводить время. Встреча с художниками Аржантейя придала остроту его жизни. Их деятельность привела его в восторг. Но несмотря на их пример, взяв в руки кисть, он оставался робким, лишенным вдохновения. Он не был творцом в подлинном смысле этого слова[57 - Кайботт оставил больше трехсот живописных работ и пастелей: интерьеры, сцены на пленэре, сцены гребного спорта, виды Парижа и побережья Нормандии, портреты и натюрморты. Его картина «Паркетчики» (1875), находящаяся в Лувре, достойна внимания.]. Но он понимал этих художников, восхищался ими. Побуждаемый своей щедростью, он хотел им помочь, не задумываясь над тем, что, поступая так, сам станет участником их борьбы, что жизнь его обогатится, обретет в этом братстве новый смысл и цель. Щедрость и энтузиазм всегда «окупаются».
Кайботт приглашал импрессионистов к обеду (он поочередно перезнакомился со всеми). Когда мог, всегда старался выручить их деньгами. И покупал у них картины. Причем не те, которые ему особенно нравились, а те, которых никто не покупал. Трудно было бы найти более бескорыстного «покровителя».
* * *
Человеческий «пейзаж», на фоне которого протекает жизнь каждого из нас, год от года меняется – меняется и мало-помалу формируется, в какой-то мере предвосхищая, как сложится наша судьба – преуспеем мы или потерпим неудачу, хотя бы в плане социальном. В этом отношении майская выставка, казалось, должна была повлечь для импрессионистов самые печальные последствия. Но с другой стороны, она открыла их публике, она как бы дала им жизнь – настоящая борьба только теперь и начиналась. И в конечном итоге дружеские связи, которые завязались у художников-батиньольцев (а новых друзей привлекал к ним их талант, и только он один), были важнее, пусть не по непосредственным, но по отдаленным результатам, чем неприятные последствия выставки. Сначала появились Теодор Дюре и Дюран-Рюэль. Теперь к ним присоединился Кайботт. Были еще и другие.
В кафе «Новые Афины» на площади Пигаль, где отныне, покинув кафе «Гербуа», стали собираться батиньольцы, часто появлялись новые лица. В мастерской Ренуара – тоже. Молодые художники, сбежавшие из Школы при Академии художеств, Фредерик Корде и Фран-Лами, почти ежедневно с наступлением вечера встречались здесь со своим другом, чиновником министерства финансов Жоржем Ривьером. Все трое познакомились с Ренуаром в «Новых Афинах», куда их привел гравер Марселен Дебутен. Элегантный чиновник министерства внутренних дел Лестренге, высокий молодой человек с русой бородкой, страстно увлекшийся живописью Ренуара, как, впрочем, он увлекался эзотеризмом и каббалистикой, также был одним из завсегдатаев мастерской. Иногда вместе с ним приходил его сослуживец, жизнерадостный и пылкий Эмманюэль Шабрие, на редкость одаренный музыкант-виртуоз, а иногда его друг Поль Лот, если этот смельчак, любивший путешествия и приключения, случайно оказывался в Париже. Это общество, к которому время от времени присоединялись Теодор Дюре или Эдмон Мэтр, вносило оживление в мастерскую. Ренуар, каждое утро с восьми часов встававший за мольберт, отдыхал с друзьями после долгого рабочего дня.
Ренуару немного было нужно, чтобы отвлечься от забот. Однако забот не убывало. 1874 год заканчивался мрачно.
17 декабря с трех часов в мастерской Ренуара происходило общее собрание «Анонимного кооперативного товарищества». Многие члены почли за благо не ответить на приглашение. Было ясно, что импрессионисты вряд ли вновь увидят в своих рядах кое-кого из тех, кто принял участие в их выставке, – они были слишком компрометирующими партнерами. Собравшиеся приступили к подведению финансовых итогов. Итоги были далеко не блестящими[58 - Входная плата принесла 3510 франков, продажа каталога – 161 франк. Расходы составили 9272 франка, из них 2020 франков за помещение, 983 – за газовое освещение и на уплату рабочим-осветителям, 742 франка за афиши, 141 франк на уплату полицейским и 317 – «отчисления в пользу бедных».]. Казначей в своем отчете отметил – а председательствующий на собрании Ренуар занес это в протокол, – что «после уплаты внешних долгов пассив товарищества все равно достигает 3713 франков (деньги, внесенные пайщиками), а в наличии в кассе 277 франков. Таким образом, каждый член останется должен 184 франка, чтобы погасить внутреннюю задолженность и восстановить общественный фонд».
«В этих условиях, – записано далее в протоколе, – представляется необходимым срочно ликвидировать товарищество». Такое предложение было выдвинуто, поставлено на голосование и принято единогласно. Было решено вернуть пайщикам взносы за второй год. Приступили к выбору ликвидационной комиссии. В ее состав вошли Бюро, Ренуар и Сислей, которым поручено выполнить все необходимые формальности.
А через пять дней после этого собрания в Лувесьенне умер отец Ренуара. Ему было семьдесят пять лет.
* * *
Моне и Сислей бедствовали, умоляли Дюре, Кайботта и Мане помочь им.
Ренуар тоже пытался найти выход из нужды. «Мне надо до полудня раздобыть сорок франков, а у меня их всего три». В этом бедственном положении ему вдруг пришло в голову, что распродажа в отеле «Друо» может поддержать его и его друзей, а тем временем они начнут подготавливать вторую групповую выставку. Эту выставку импрессионисты хотели организовать весной. Но где взять для этого деньги? Сислей, Моне, как и Берта Моризо (она в декабре вышла замуж за Эжена Мане, брата Эдуара), поддержали предложение Ренуара.
Распродажа – на ней было представлено двадцать работ Моне, двадцать одна Сислея, двенадцать Берты Моризо и двадцать Ренуара – состоялась 24 марта 1875 года. В роли эксперта выступил Дюран-Рюэль. Филипп Бюрти написал предисловие к каталогу. Мане, который хотел поддержать своих младших товарищей, за несколько дней до распродажи написал воинственному Альберу Вольфу: «Может статься, Вы пока еще не любите эту живопись. Но Вы ее полюбите. А тем временем, будьте любезны, напишите о ней несколько слов в „Ле Фигаро“». В ответ Вольф опубликовал статью, написанную в его обычной саркастической манере[59 - «Нам, в общем, показалось, что всю эту живопись надо рассматривать, отойдя на пятнадцать шагов, да еще полузакрыв глаза, и если вам хочется насладиться этими полотнами, хотя бы призвав на помощь воображение, несомненно, надо иметь весьма просторную квартиру, чтобы их развесить. Они представляют собой в цвете то же, что некоторые бредни Вагнера в музыке. Эти художники „впечатления“ производят то же впечатление, что кошка, которая вздумала бы прогуляться по клавишам фортепьяно, или обезьяна, завладевшая ящиком с красками».]. Однако заканчивалась эта статья фразой, которая по замыслу критика, очевидно, должна была звучать заманчиво для читателей. «Впрочем, – писал Вольф, – вероятно, тем, кто делает ставку на искусство будущего, здесь есть чем поживиться».
Но торговцы картинами не спешили в отель Друо. Зато «зеваки» и «своенравные любители искусства»[60 - Филипп Бюрти в «Ла Репюблик Франсез» от 26 марта 1875 г.] теснились, там, чтобы позабавиться, глядя на «лиловые поля, красные цветы, черные реки, желтых и зеленых женщин и синих детей, которых жрецы новой школы представили на обозрение публики»[61 - Жижес в «Пари-журналь» от 25 марта 1875 года.]. Торги проходили бурно. Сторонники и противники импрессионистов препирались так яростно, что пришлось обратиться за помощью к полиции, чтобы водворить какое-то подобие порядка. Но все не имело бы значения, если бы распродажа, несмотря на присутствие Дюре, Кайботта и еще нескольких верных друзей, не превратилась, по словам Ренуара, в «разгром». Дюран-Рюэль, которому его обязанности эксперта не позволяли вмешиваться в процедуру торгов, в отчаянии и ярости вынужден был бессильно наблюдать, как за гроши продаются картины его подопечных. Единственное, что ему удалось, – это снять с аукциона несколько картин. Но семьдесят три проданных картины принесли меньше двенадцати тысяч франков[62 - Точнее, 11 491 франк.]. Самая высокая, хотя и смехотворно ничтожная, сумма – четыреста восемьдесят франков – была назначена за картину Берты Моризо. Двадцать картин Ренуара было продано за две тысячи двести пятьдесят один франк, то есть в среднем по сто двенадцать франков за картину. Девять из них были оценены от пятидесяти до девяноста франков каждая. Дороже всего была продана картина, написанная в 1872 году, – «Новый мост»: за нее дали триста франков.
Новое поражение! Но в области искусства те, кому суждено победить, часто идут к конечному торжеству через поражения. Само собой, после распродажи в отеле «Друо» у Ренуара и его товарищей были причины впасть в отчаяние. Казалось, эта распродажа в еще большей мере, чем выставка, закрыла перед ними все пути в будущее, потому что она как бы доказала – и доказала в цифрах, то есть самым сокрушительным и неоспоримым для нашего мира способом, – что импрессионистов не ставят ни в грош. И тем не менее распродажа оказалась новым этапом на их пути: она принесла им, хотя они еще не подозревали об этом, серьезную поддержку двух лиц, одному из которых суждено было сыграть в жизни Ренуара очень важную, решающую роль. В самом деле, в возбужденной толпе, заполнившей отель «Друо», находились двое. Эти два человека, совершенно несхожие между собой, не знали друг друга, как еще накануне не знали импрессионистов; одного из них, чиновника таможенного управления, звали Виктор Шоке, другого, издателя с улицы Гренель, – Жорж Шарпантье, у него в 1873 году работал на договорных началах бывший полемист из газеты «Л’Эвенман» Эмиль Золя, ставший уже автором романов о Ругон-Маккарах, но еще не приобретший широкой известности. Восхищенный Шарпантье купил за сто восемьдесят франков картину Ренуара «Рыболов с удочкой».
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: