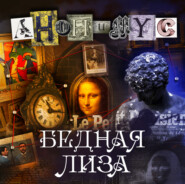По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Тайный дневник Михаила Булгакова
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Надо сказать, от зависимости меня все-таки спасли. Нашелся врач, они с Тасей придумали интригу: давать мне не чистую порцию дурмана, а понемногу разбавлять ее, день за днем снижая концентрацию. И способ этот, как ни удивительно, подействовал.
Теперь совершенно спокойно я мог ехать в Москву, вот только сделать этого было нельзя. Война дошла до нас, и власти сменялись, как в чехарде: гетман, немцы, Петлюра, большевики, белые – и снова, и снова, по бесконечному кругу. Пассажирские составы перестали ходить, ходили только военные поезда. Чтобы сесть на такой поезд, требовались особые документы, каких у меня не было и быть не могло. Да и опять же, не мог я бросить Тасю и всех остальных в такой тяжелый час. Надо было поддерживать друг друга и как-то выживать. Я сказал себе, что соберусь в Москву при первой же возможности, а сейчас пока буду жить, как живется.
Жилось, впрочем, ужасно. Иной раз бывало так страшно, что казалось, не доживешь до утра. По улицам ходили пьяные бандиты с ружьями, посвистывали пули, любой поход в магазин или аптеку превращался в смертельную рулетку.
Денег не было совсем, зато город наводнили крысы. Были они наглые, в квартиры заходили, как к себе домой. Однажды взбесившийся грызун загнал меня на стол и бросался, желая укусить, я еле отбился палкой. В другой раз крысы прорвались в дом и атаковали нас целой ватагой.
Крыс можно было понять: в городе сделалось голодно, отбросов никто не оставлял. Людям тоже приходилось несладко. Жена моя Тася распродавала понемногу отцовское столовое серебро, тем и держались. Собирались с родственниками в складчину, у кого что есть. К счастью, муж сестры Вари, Карум, при всех властях ухитрялся быть на плаву, так что средства у него имелись. Мы с Тасей без зазрения совести брали у него в долг. По-хорошему, надо было бы растянуть деньги на некоторое время, но после всех испытаний ужасно хотелось радости, праздника. Так что покупали мы на Карумовы деньги вино и икру, французские булки и масло, устраивали пирушки. Карум, разумеется, был недоволен, говорил Варе, что мы едим и пьем, а денег не отдаем. Но как же, помилуйте, отдавать деньги, ведь для того они и берутся, чтобы есть и пить!
Я завел врачебную практику – пока небогатую, но какие-то средства дает. Хозяин дома, Листовничий, живущий на первом этаже, сильно моей практикой расстроен. В основном ко мне ходят проститутки и венерические солдаты, Листовничий трепещет, что они походя развратят и изнасилуют его молодую дочь. Разумеется, он бы хотел, чтобы ко мне ходили только матери семейств и университетские профессора, но тогда, боюсь, мы с Тасей окончательно померли бы с голоду.
Как-то раз во всей этой круговерти меня даже силой мобилизовали синежупанники. Им было все равно, врач ты или кто другой, на пушечное мясо любой сгодится. Думаю, к этому дню давно бы уже гнил я в безымянной могиле, если бы не плюнул на честь и прочие предрассудки и не сбежал от них самым решительным образом.
Когда-нибудь кто-нибудь напишет об этих странных и страшных временах. Иногда мне кажется, что таким человеком мог бы быть и я, но на это не надеюсь и даже не думаю об этом пока. Довольно уже и того, что жизнь продолжается и встает новое утро, а что там будет через месяц или год – этого никто не знает, не исключая самого Вседержителя, который, кажется, закрыл лицо свое от наших бесчинств.
Здесь много литераторов, в том числе и московских, и петроградских, есть и ученые. Они бежали сюда от голода и холода, бежали, надеясь укрыться в мирном теплом Киеве, где цветет по весне белая, как невеста, вишня и Днепр по-прежнему величаво несет свои могучие волны, разделяя город на две части. Тут образовалась даже академия, не говоря уже о многочисленных поэтических вечерах и спектаклях. Президентом академии стал Вернадский, надо бы почитать что-нибудь из него.
* * *
К осени 1919 года меня все-таки мобилизовали, но это уже были белые. Напялили на меня френч, надели шинель и погнали во Владикавказ. Тася плакала, провожая меня, боялась, что убьют. Через месяц я ее вызвал, она ко мне приехала. Был я, к счастью, не офицером на передовой, а служил по специальности, то есть врачом. Позже меня отправили в Грозный, потом мы жили некоторое время в Беслане.
Нормальной жизни нигде не было, все время приходилось изворачиваться и юлить, пытаясь выжулить у власти и уполномоченных ею лиц хотя бы кусок хлеба. Всерьез занялся литературой, написал даже несколько пьес, которые ставили в местных театрах. Ничего более ужасающего по наглости и бездарности, чем мои пьесы, мир не видывал. Однако туземцы, кажется, довольны: подходят, жмут руку, говорят, что пьеса прекрасная – тьфу! Впрочем, есть у меня одно оправдание – всякая тварь хочет жить, и литератор не исключение. А что пьесы можно было бы писать и получше, об этом я знаю сам, вот только кому сейчас нужны хорошие пьесы? Здесь вам не Художественный театр и не Антон Чехов, здесь военный коммунизм и гражданская война. Впрочем, спустя некоторое время понимаешь, что гражданская война с тех пор прочно укрепилась у нас в обществе, и каждый хочет затоптать каждого. В этих условиях, конечно, чем бездарнее искусство, тем больше у него шансов прокормить своего создателя.
Иногда в надежде поправить свои дела играл на бильярде – обычно продувался с треском. Однажды до того дошло, что в Ростове заложил Тасину золотую браслетку, которую брал на удачу. По счастью, встретил двоюродного брата Константина, отдал ему квитанцию, просил браслетку выкупить.
Как-то раз чуть не расстреляли меня красные, другой раз едва не был убит то ли ингушами, то ли осетинами. Вспоминать об этом сейчас не хочется, дело совсем неприятное, даже учитывая то, что все-таки не убили. После контузии обзавелся чем-то вроде нервного тика – вот тут, как ни странно, очень пригодился наш разговор с Загорским. Благодаря его массажу смог я более-менее привести себя в норму, хотя иной раз, бывало, по-прежнему внезапно дергал рукой и корчил рожи.
Впрочем, если отбросить постоянный голод и скитания, можно сказать, что жили по-своему весело, а я так и вовсе приобрел бесценный опыт. Общался и с казачьими атаманами, и с генералами, в том числе с белым генералом Гавриловым. Когда выпьют, атаманы эти становятся совершенно литературными персонажами, как их в романах и пьесах изображают, а, впрочем, и трезвые ненамного лучше.
В Батуме на улице встретил поэта Мандельштама с женой. Он известен был как акмеист-адамист еще до революции. Расспрашивал его, как можно опубликоваться в Москве, кому слать рукописи. Мандельштам, человек опытный, отвечал, что никому ничего слать не нужно, а надо самому ехать в столицу и брать редакторов и издателей за рога. Как ни странно, разговор этот вдохнул в меня надежду, и я засобирался в Москву, где и оказался в конце сентября 1921 года.
Однако за несколько месяцев перед тем дошла до меня страшная весть. В Зоиной квартире, где держала она свой поэтический и музыкальный салон, случилась какая-то уголовщина, и Зоя попала под следствие. Это ужаснуло меня. Мысль о том, что любимая женщина сидит в холодных подвалах уголовки, была мне невыносима. Усугублялось мое настроение тем, что я сам ее бросил на произвол судьбы, а если бы остался, возможно, беды удалось бы избежать. Я не знал, что именно там случилось – убийство, или обвинили Зою в содержании притона, а то ли и то, и другое – но дело было серьезное. Впрочем, поэты, которых я видел, вполне могли устроить там и притон, и еще чего похуже: притон делался там, куда они приходили хотя бы на полчаса. Что же касается убийства, то об этом даже и думать я не мог. Впрочем, и это было возможно, потому что много шныряло вокруг темных личностей, один подпольщик и пианист Буренин чего стоит. Его привычка к террору и бросанию бомб, похвальная при самодержавии, при советской власти выглядит совершенно неуместной и наверняка рано или поздно скажется на окружающих самым печальным образом. А Аметистов? Разве достоин доверия человек, который надевает под визитку клетчатые брюки, в то время как визитка носится только и исключительно с полосатыми? Там же околачивался торговец пряностями с ангельским лицом, пресловутый ходя Херувим. Вместе с ним в дом вполне могли проникнуть бандиты и грабители.
Впрочем, гадать, как все случилось, было бесполезно, надо было что-то предпринимать. Сам я в Москву тогда поехать не мог, да и пользы от меня в этом деле было, как от козла молока. Что я мог сделать? Ничего. От отчаяния я даже запил, но в редкий момент просветления пришла мне в голову блестящая идея. Я решил написать личное письмо председателю Совнаркома Ульянову-Ленину. Немного выпив для храбрости, я сел писать. Письмо вышло примерно такое – цитирую по памяти.
«Дорогой Владимир Ильич.
Вы меня не знаете, но я о Вашей деятельности прекрасно осведомлен. Я бывший венеролог, ныне вставший на путь исправления и пишущий революционные пьесы с пролетарским уклоном. (Этот последний пассаж, по моему мнению, должен был растрогать главного большевика).
Я женат, но, к несчастью, оказался неверен своей жене – Вам, как мужчине, это должно быть понятно и близко. Я люблю и уважаю свою Тасю, но я люблю и другую женщину – Зою Денисовну Пельц, которую недавно арестовала милиция за содержание притона и другие ужасные преступления. Как человек, почти стоящий на платформе[11 - Стоять на платформе – придерживаться определенных взглядов. В раннесовесткие времена это обычно означало, что человек не является членом коммунистической партии, однако в целом разделяет ее идеологию.], могу заявить совершенно ответственно, что ничего этого не было и быть не могло. А если что-то и было наверняка, так это подрывная деятельность криминальных элементов вроде гражданина Аметистова, беспрерывно говорящего на очень плохом французском языке и поющего удивительные по своему безобразию арии, китайского торговца опием по имени Херувим и ряда дурно воспитанных поэтов. Кроме того, к делу может иметь касательство и называющий себя тапером и большевиком гражданин Буренин, раскрывший государственную тайну, что наше с Вами светлое будущее – это советская власть плюс электрификация всей страны. (Это он говорил еще до того, как Вы объявили курс ГОЭЛРО).
Прошу дать указание всех вышеупомянутых граждан немедленно арестовать и начать в их отношении расследование, а гражданку Пельц, которую я люблю больше жизни, отпустить на все четыре стороны, поскольку упомянутая гражданка при всем желании не могла сделать ничего предосудительного, чему лично я неоднократно был свидетелем.
Уважающий Вас беллетрист М. Булгаков».
Когда я дописал письмо, на улицу уже пришла ночь, и я решил отправить его утром, на свежую голову. Однако утром, немного протрезвившись, я перечитал написанное и пришел в ужас. Думаю, что мой пьяный бред, дойди он до вождя, смог бы произвести на Ленина эффект посильнее, чем выстрелы в голову, сделанные гражданкой Каплан. Впрочем, может быть, я ошибаюсь, и Ильич просто посмеялся бы над такой явной глупостью, а еще прочитал бы мое письмо на съезде, и я стал бы посмешищем для всей страны.
Я изорвал письмо в клочки, а остатки сжег на свече. Однако мысль о Зое не оставляла меня. Несколько дней я безуспешно ломал голову, и вдруг меня осенило: да ведь прямо там, под лестницей, живет сыщик, загадочный Нестор Васильевич Загорский! Если он не поможет в этом деликатном деле, то не поможет и вовсе никто.
Я списался с дядей Николаем Михайловичем и слезно просил его отправиться с визитом к Загорскому и от моего имени попросить, чтобы он спас несчастную Зою от жестоких следователей НКВД. В конце концов, гражданская война все еще шла, а это значит, что Зое могли назначить любое наказание, вплоть до расстрела.
В последующих событиях я участия не принимал, и писать о них мне придется со слов непосредственных свидетелей. Но, однако, для ясности надо будет сначала окунуться в недалекое прошлое еще до того, как Зоина квартира была уничтожена, а сама Зоя попала под следствие.
Итак…
Глава третья
Графские сокровища
О, как холодно, как нечеловечески холодно! Снег скрипит под подошвой, воздух стынет на лице, леденеет и ломается на зубах. Может, впрочем, это и не воздух, конечно, может, просто лед с заиндевевшей бороды и усов. Граф Обольянинов, топтавшийся сейчас в темной подворотне, давно забыл, когда брился в последний раз – некогда, да и ни к чему: в бороде теплее, если, конечно, она не засыпана снегом.
Холодный воздух, как яд, проникает в больные бронхи, выворачивает их наизнанку, сотрясает от приступов кашля. Воздуха все меньше, он уже не входит в легкие, еще немного, и задохнешься от ледяной, смертельной пустоты.
– Отравлен хлеб, и воздух выпит: как трудно раны врачевать… – рифмованные строки приходят откуда-то с черного неба, они стонут, плачут, и стонет и плачет с ними граф. Плачет как ребенок, не стесняясь своей слабости.
Как, как этот жизнерадостный адамист, этот еврей Мандельштам мог еще семь лет назад знать, что случится с графом, что будет с ними со всеми? «Иосиф, проданный в Египет, не мог сильнее тосковать…» Истинно, не мог. Все они теперь ветхозаветные иосифы, все попали в страшный египетский плен к большевикам. Кто выведет их отсюда, кто спасет? Никто не выведет, никто не спасет. Одна надежда была – на верховного правителя России адмирала Колчака, но и того расстреляли в иркутском феврале, таком же морозном, как нынешний московский декабрь. Расстреляли без суда и следствия, как бешеного волка.
И он, граф, теперь как этот волк, но волк одинокий, без стаи. Ах, белая стая, где растворилась ты? Погибла в жарких боях на Восточном фронте, сожжена пулеметным огнем в кубанских степях, потоплена в священных водах Севастополя, изнемогает от тоски по дому на холодных стокгольмских проспектах.
И раз стая его перестала существовать, то и сам он больше не волк, а собака, но не бешеная даже, а смирная, любому готовая за кусок хлеба руку лизать… тут граф встрепенулся. Нет, господа большевики, нет, даже не надейтесь! Это ложь, не готова эта собака, а точнее, этот граф лизать руки кому бы то ни было, и лучше он умрет с голоду, чем унизится. Так вот, милостивые государи, так и никак иначе!
После этой мятежной мысли Обольянинов почувствовал себя лучше и даже немного воспрянул духом. Однако длилось это недолго. А все потому, господа, что есть вещи пострашнее голода. Когда в дикий мороз нет крыши над головой, вот тогда становится ясно, что такое настоящая адская мука. Не зря в «Божественной комедии» Данте поселил своего Сатану не в банном чаду адских сковородок, а в стынущей ледяной преисподней.
Когда-то, так давно, что и не упомнить, четыре или пять лет назад, выходил граф в московскую зиму, распахивал на себе жаркую горностаевую шубу, прыгал в сани, и тройка мчала его в «Эрмитаж». Пулярки, икра, жареные лангустины, артишоки в шампанском, седло барашка и фирменный салат от мсье Оливье с рябчиками… Ах, Россия, которую мы потеряли! Граф зажмурился и прямо почувствовал, как сок от рябчиков потек по подбородку. Впрочем, нет, это был совсем не сок. Кель скандаль[12 - Quel scandale (фр). – Какой скандал.] – голодный граф пустил слюни, как последний младенец!
Но кто обвинит Обольянинова – он не ел со вчерашнего вечера. Да и то, что он ел, не шло ни в какое сравнение ни с пулярками, ни даже с простой жареной курицей. О, этот пайковый хлеб, ни консистенцией, ни вкусом почти не отличимый от глины! Поэт Хлебников мечтал когда-то, что человечество сможет не растить хлеб, а есть сразу землю. И вот, кажется, мечты его сбылись. Уму непостижимо, как и из чего можно готовить такую субстанцию, да еще после этого называть ее хлебом!
Впрочем, и такого хлеба нет нынче у бедного графа. Его сняли с учета и выгнали из каморки, которую он занимал на правах дворника. Из собственного поместья его выперли уже давно – как нетрудовой элемент и махрового аристократа. К счастью, случилось это летом, так что он некоторое время мыкался по паркам и вокзалам, пока случайно не встретил своего бывшего крестьянина, Антипа, который при новой власти сумел устроиться в жилконтору. Крестьянин был хитрый, как и все крестьяне, но, в отличие от прочих, добрый и помог бывшему помещику.
Теперь совершенно спокойно я мог ехать в Москву, вот только сделать этого было нельзя. Война дошла до нас, и власти сменялись, как в чехарде: гетман, немцы, Петлюра, большевики, белые – и снова, и снова, по бесконечному кругу. Пассажирские составы перестали ходить, ходили только военные поезда. Чтобы сесть на такой поезд, требовались особые документы, каких у меня не было и быть не могло. Да и опять же, не мог я бросить Тасю и всех остальных в такой тяжелый час. Надо было поддерживать друг друга и как-то выживать. Я сказал себе, что соберусь в Москву при первой же возможности, а сейчас пока буду жить, как живется.
Жилось, впрочем, ужасно. Иной раз бывало так страшно, что казалось, не доживешь до утра. По улицам ходили пьяные бандиты с ружьями, посвистывали пули, любой поход в магазин или аптеку превращался в смертельную рулетку.
Денег не было совсем, зато город наводнили крысы. Были они наглые, в квартиры заходили, как к себе домой. Однажды взбесившийся грызун загнал меня на стол и бросался, желая укусить, я еле отбился палкой. В другой раз крысы прорвались в дом и атаковали нас целой ватагой.
Крыс можно было понять: в городе сделалось голодно, отбросов никто не оставлял. Людям тоже приходилось несладко. Жена моя Тася распродавала понемногу отцовское столовое серебро, тем и держались. Собирались с родственниками в складчину, у кого что есть. К счастью, муж сестры Вари, Карум, при всех властях ухитрялся быть на плаву, так что средства у него имелись. Мы с Тасей без зазрения совести брали у него в долг. По-хорошему, надо было бы растянуть деньги на некоторое время, но после всех испытаний ужасно хотелось радости, праздника. Так что покупали мы на Карумовы деньги вино и икру, французские булки и масло, устраивали пирушки. Карум, разумеется, был недоволен, говорил Варе, что мы едим и пьем, а денег не отдаем. Но как же, помилуйте, отдавать деньги, ведь для того они и берутся, чтобы есть и пить!
Я завел врачебную практику – пока небогатую, но какие-то средства дает. Хозяин дома, Листовничий, живущий на первом этаже, сильно моей практикой расстроен. В основном ко мне ходят проститутки и венерические солдаты, Листовничий трепещет, что они походя развратят и изнасилуют его молодую дочь. Разумеется, он бы хотел, чтобы ко мне ходили только матери семейств и университетские профессора, но тогда, боюсь, мы с Тасей окончательно померли бы с голоду.
Как-то раз во всей этой круговерти меня даже силой мобилизовали синежупанники. Им было все равно, врач ты или кто другой, на пушечное мясо любой сгодится. Думаю, к этому дню давно бы уже гнил я в безымянной могиле, если бы не плюнул на честь и прочие предрассудки и не сбежал от них самым решительным образом.
Когда-нибудь кто-нибудь напишет об этих странных и страшных временах. Иногда мне кажется, что таким человеком мог бы быть и я, но на это не надеюсь и даже не думаю об этом пока. Довольно уже и того, что жизнь продолжается и встает новое утро, а что там будет через месяц или год – этого никто не знает, не исключая самого Вседержителя, который, кажется, закрыл лицо свое от наших бесчинств.
Здесь много литераторов, в том числе и московских, и петроградских, есть и ученые. Они бежали сюда от голода и холода, бежали, надеясь укрыться в мирном теплом Киеве, где цветет по весне белая, как невеста, вишня и Днепр по-прежнему величаво несет свои могучие волны, разделяя город на две части. Тут образовалась даже академия, не говоря уже о многочисленных поэтических вечерах и спектаклях. Президентом академии стал Вернадский, надо бы почитать что-нибудь из него.
* * *
К осени 1919 года меня все-таки мобилизовали, но это уже были белые. Напялили на меня френч, надели шинель и погнали во Владикавказ. Тася плакала, провожая меня, боялась, что убьют. Через месяц я ее вызвал, она ко мне приехала. Был я, к счастью, не офицером на передовой, а служил по специальности, то есть врачом. Позже меня отправили в Грозный, потом мы жили некоторое время в Беслане.
Нормальной жизни нигде не было, все время приходилось изворачиваться и юлить, пытаясь выжулить у власти и уполномоченных ею лиц хотя бы кусок хлеба. Всерьез занялся литературой, написал даже несколько пьес, которые ставили в местных театрах. Ничего более ужасающего по наглости и бездарности, чем мои пьесы, мир не видывал. Однако туземцы, кажется, довольны: подходят, жмут руку, говорят, что пьеса прекрасная – тьфу! Впрочем, есть у меня одно оправдание – всякая тварь хочет жить, и литератор не исключение. А что пьесы можно было бы писать и получше, об этом я знаю сам, вот только кому сейчас нужны хорошие пьесы? Здесь вам не Художественный театр и не Антон Чехов, здесь военный коммунизм и гражданская война. Впрочем, спустя некоторое время понимаешь, что гражданская война с тех пор прочно укрепилась у нас в обществе, и каждый хочет затоптать каждого. В этих условиях, конечно, чем бездарнее искусство, тем больше у него шансов прокормить своего создателя.
Иногда в надежде поправить свои дела играл на бильярде – обычно продувался с треском. Однажды до того дошло, что в Ростове заложил Тасину золотую браслетку, которую брал на удачу. По счастью, встретил двоюродного брата Константина, отдал ему квитанцию, просил браслетку выкупить.
Как-то раз чуть не расстреляли меня красные, другой раз едва не был убит то ли ингушами, то ли осетинами. Вспоминать об этом сейчас не хочется, дело совсем неприятное, даже учитывая то, что все-таки не убили. После контузии обзавелся чем-то вроде нервного тика – вот тут, как ни странно, очень пригодился наш разговор с Загорским. Благодаря его массажу смог я более-менее привести себя в норму, хотя иной раз, бывало, по-прежнему внезапно дергал рукой и корчил рожи.
Впрочем, если отбросить постоянный голод и скитания, можно сказать, что жили по-своему весело, а я так и вовсе приобрел бесценный опыт. Общался и с казачьими атаманами, и с генералами, в том числе с белым генералом Гавриловым. Когда выпьют, атаманы эти становятся совершенно литературными персонажами, как их в романах и пьесах изображают, а, впрочем, и трезвые ненамного лучше.
В Батуме на улице встретил поэта Мандельштама с женой. Он известен был как акмеист-адамист еще до революции. Расспрашивал его, как можно опубликоваться в Москве, кому слать рукописи. Мандельштам, человек опытный, отвечал, что никому ничего слать не нужно, а надо самому ехать в столицу и брать редакторов и издателей за рога. Как ни странно, разговор этот вдохнул в меня надежду, и я засобирался в Москву, где и оказался в конце сентября 1921 года.
Однако за несколько месяцев перед тем дошла до меня страшная весть. В Зоиной квартире, где держала она свой поэтический и музыкальный салон, случилась какая-то уголовщина, и Зоя попала под следствие. Это ужаснуло меня. Мысль о том, что любимая женщина сидит в холодных подвалах уголовки, была мне невыносима. Усугублялось мое настроение тем, что я сам ее бросил на произвол судьбы, а если бы остался, возможно, беды удалось бы избежать. Я не знал, что именно там случилось – убийство, или обвинили Зою в содержании притона, а то ли и то, и другое – но дело было серьезное. Впрочем, поэты, которых я видел, вполне могли устроить там и притон, и еще чего похуже: притон делался там, куда они приходили хотя бы на полчаса. Что же касается убийства, то об этом даже и думать я не мог. Впрочем, и это было возможно, потому что много шныряло вокруг темных личностей, один подпольщик и пианист Буренин чего стоит. Его привычка к террору и бросанию бомб, похвальная при самодержавии, при советской власти выглядит совершенно неуместной и наверняка рано или поздно скажется на окружающих самым печальным образом. А Аметистов? Разве достоин доверия человек, который надевает под визитку клетчатые брюки, в то время как визитка носится только и исключительно с полосатыми? Там же околачивался торговец пряностями с ангельским лицом, пресловутый ходя Херувим. Вместе с ним в дом вполне могли проникнуть бандиты и грабители.
Впрочем, гадать, как все случилось, было бесполезно, надо было что-то предпринимать. Сам я в Москву тогда поехать не мог, да и пользы от меня в этом деле было, как от козла молока. Что я мог сделать? Ничего. От отчаяния я даже запил, но в редкий момент просветления пришла мне в голову блестящая идея. Я решил написать личное письмо председателю Совнаркома Ульянову-Ленину. Немного выпив для храбрости, я сел писать. Письмо вышло примерно такое – цитирую по памяти.
«Дорогой Владимир Ильич.
Вы меня не знаете, но я о Вашей деятельности прекрасно осведомлен. Я бывший венеролог, ныне вставший на путь исправления и пишущий революционные пьесы с пролетарским уклоном. (Этот последний пассаж, по моему мнению, должен был растрогать главного большевика).
Я женат, но, к несчастью, оказался неверен своей жене – Вам, как мужчине, это должно быть понятно и близко. Я люблю и уважаю свою Тасю, но я люблю и другую женщину – Зою Денисовну Пельц, которую недавно арестовала милиция за содержание притона и другие ужасные преступления. Как человек, почти стоящий на платформе[11 - Стоять на платформе – придерживаться определенных взглядов. В раннесовесткие времена это обычно означало, что человек не является членом коммунистической партии, однако в целом разделяет ее идеологию.], могу заявить совершенно ответственно, что ничего этого не было и быть не могло. А если что-то и было наверняка, так это подрывная деятельность криминальных элементов вроде гражданина Аметистова, беспрерывно говорящего на очень плохом французском языке и поющего удивительные по своему безобразию арии, китайского торговца опием по имени Херувим и ряда дурно воспитанных поэтов. Кроме того, к делу может иметь касательство и называющий себя тапером и большевиком гражданин Буренин, раскрывший государственную тайну, что наше с Вами светлое будущее – это советская власть плюс электрификация всей страны. (Это он говорил еще до того, как Вы объявили курс ГОЭЛРО).
Прошу дать указание всех вышеупомянутых граждан немедленно арестовать и начать в их отношении расследование, а гражданку Пельц, которую я люблю больше жизни, отпустить на все четыре стороны, поскольку упомянутая гражданка при всем желании не могла сделать ничего предосудительного, чему лично я неоднократно был свидетелем.
Уважающий Вас беллетрист М. Булгаков».
Когда я дописал письмо, на улицу уже пришла ночь, и я решил отправить его утром, на свежую голову. Однако утром, немного протрезвившись, я перечитал написанное и пришел в ужас. Думаю, что мой пьяный бред, дойди он до вождя, смог бы произвести на Ленина эффект посильнее, чем выстрелы в голову, сделанные гражданкой Каплан. Впрочем, может быть, я ошибаюсь, и Ильич просто посмеялся бы над такой явной глупостью, а еще прочитал бы мое письмо на съезде, и я стал бы посмешищем для всей страны.
Я изорвал письмо в клочки, а остатки сжег на свече. Однако мысль о Зое не оставляла меня. Несколько дней я безуспешно ломал голову, и вдруг меня осенило: да ведь прямо там, под лестницей, живет сыщик, загадочный Нестор Васильевич Загорский! Если он не поможет в этом деликатном деле, то не поможет и вовсе никто.
Я списался с дядей Николаем Михайловичем и слезно просил его отправиться с визитом к Загорскому и от моего имени попросить, чтобы он спас несчастную Зою от жестоких следователей НКВД. В конце концов, гражданская война все еще шла, а это значит, что Зое могли назначить любое наказание, вплоть до расстрела.
В последующих событиях я участия не принимал, и писать о них мне придется со слов непосредственных свидетелей. Но, однако, для ясности надо будет сначала окунуться в недалекое прошлое еще до того, как Зоина квартира была уничтожена, а сама Зоя попала под следствие.
Итак…
Глава третья
Графские сокровища
О, как холодно, как нечеловечески холодно! Снег скрипит под подошвой, воздух стынет на лице, леденеет и ломается на зубах. Может, впрочем, это и не воздух, конечно, может, просто лед с заиндевевшей бороды и усов. Граф Обольянинов, топтавшийся сейчас в темной подворотне, давно забыл, когда брился в последний раз – некогда, да и ни к чему: в бороде теплее, если, конечно, она не засыпана снегом.
Холодный воздух, как яд, проникает в больные бронхи, выворачивает их наизнанку, сотрясает от приступов кашля. Воздуха все меньше, он уже не входит в легкие, еще немного, и задохнешься от ледяной, смертельной пустоты.
– Отравлен хлеб, и воздух выпит: как трудно раны врачевать… – рифмованные строки приходят откуда-то с черного неба, они стонут, плачут, и стонет и плачет с ними граф. Плачет как ребенок, не стесняясь своей слабости.
Как, как этот жизнерадостный адамист, этот еврей Мандельштам мог еще семь лет назад знать, что случится с графом, что будет с ними со всеми? «Иосиф, проданный в Египет, не мог сильнее тосковать…» Истинно, не мог. Все они теперь ветхозаветные иосифы, все попали в страшный египетский плен к большевикам. Кто выведет их отсюда, кто спасет? Никто не выведет, никто не спасет. Одна надежда была – на верховного правителя России адмирала Колчака, но и того расстреляли в иркутском феврале, таком же морозном, как нынешний московский декабрь. Расстреляли без суда и следствия, как бешеного волка.
И он, граф, теперь как этот волк, но волк одинокий, без стаи. Ах, белая стая, где растворилась ты? Погибла в жарких боях на Восточном фронте, сожжена пулеметным огнем в кубанских степях, потоплена в священных водах Севастополя, изнемогает от тоски по дому на холодных стокгольмских проспектах.
И раз стая его перестала существовать, то и сам он больше не волк, а собака, но не бешеная даже, а смирная, любому готовая за кусок хлеба руку лизать… тут граф встрепенулся. Нет, господа большевики, нет, даже не надейтесь! Это ложь, не готова эта собака, а точнее, этот граф лизать руки кому бы то ни было, и лучше он умрет с голоду, чем унизится. Так вот, милостивые государи, так и никак иначе!
После этой мятежной мысли Обольянинов почувствовал себя лучше и даже немного воспрянул духом. Однако длилось это недолго. А все потому, господа, что есть вещи пострашнее голода. Когда в дикий мороз нет крыши над головой, вот тогда становится ясно, что такое настоящая адская мука. Не зря в «Божественной комедии» Данте поселил своего Сатану не в банном чаду адских сковородок, а в стынущей ледяной преисподней.
Когда-то, так давно, что и не упомнить, четыре или пять лет назад, выходил граф в московскую зиму, распахивал на себе жаркую горностаевую шубу, прыгал в сани, и тройка мчала его в «Эрмитаж». Пулярки, икра, жареные лангустины, артишоки в шампанском, седло барашка и фирменный салат от мсье Оливье с рябчиками… Ах, Россия, которую мы потеряли! Граф зажмурился и прямо почувствовал, как сок от рябчиков потек по подбородку. Впрочем, нет, это был совсем не сок. Кель скандаль[12 - Quel scandale (фр). – Какой скандал.] – голодный граф пустил слюни, как последний младенец!
Но кто обвинит Обольянинова – он не ел со вчерашнего вечера. Да и то, что он ел, не шло ни в какое сравнение ни с пулярками, ни даже с простой жареной курицей. О, этот пайковый хлеб, ни консистенцией, ни вкусом почти не отличимый от глины! Поэт Хлебников мечтал когда-то, что человечество сможет не растить хлеб, а есть сразу землю. И вот, кажется, мечты его сбылись. Уму непостижимо, как и из чего можно готовить такую субстанцию, да еще после этого называть ее хлебом!
Впрочем, и такого хлеба нет нынче у бедного графа. Его сняли с учета и выгнали из каморки, которую он занимал на правах дворника. Из собственного поместья его выперли уже давно – как нетрудовой элемент и махрового аристократа. К счастью, случилось это летом, так что он некоторое время мыкался по паркам и вокзалам, пока случайно не встретил своего бывшего крестьянина, Антипа, который при новой власти сумел устроиться в жилконтору. Крестьянин был хитрый, как и все крестьяне, но, в отличие от прочих, добрый и помог бывшему помещику.
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: