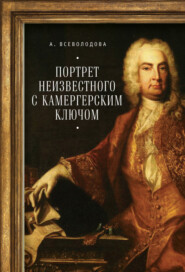По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Впрочем, неважно. Нерасстанное (сборник)
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
И изгоню клеветников.
За стол с собою не пущу
Надменных, злых, неблагодарных;
Моей трапезой угощу
Правдивых, честных, благонравных,
К благим и добрым буду добр.
И где со мною ни сойдутся
Лжецы, мздоимцы, гордецы, —
Отвсюду мною изженутся
В дальнейшие земны концы,
Иль казнь повергнет их во гроб.
Чтением этим я угодил окружающим более прежнего, а Жильцов с одушевлением убеждал меня преподнести вирши самому губернатору, под видом оды. «Он сам – точно с натуры писано» – переговаривались мои доброхоты.
– Назовите сии вирши «Праведный судия» – подсказал канцелярист Теплаков, – или «Нелицемерный судия».
– Вы правы, Александр Семёнович, поэт так и назвал эти вирши: «Праведный судия».
С тех пор не раз читывал я Державина, Ломоносова и Сумарокова перед Лизаветой Романовной и неразлучной её Федосьей. Конечно, хотя я и весьма увлекался перечисленными поэтами, на память знал далеко не всё, да иногда и перевирал, и сокращал то, что читал, но слушательницы мои, разумеется, не могли того приметить. Часто казалось мне досадным, читывать только чужие стихи, и я пытался составить собственные, но что они были в сравнении со строками помянутых авторов!
«… манит меня сия чудесна тайна,
и радостью дарит необычайной,
гласит она «отдай всё – и пребудет,
себя сгуби – и не убудет».
Кончаю я постылую разлуку,
Откладываю я сердечну муку,
Как долог, скушен, сер был век унылый,
Но как искрится он перед могилой!
Увижу тень заветну, милые черты,
Воскликну в счастье я:
«Там парадиз, где ты!»
Я не читывал и не показывал своих стихов, хотя мне приходила в голову мысль выдать их за неудачные вирши Сумарокова. Но представляя себе, что должен буду хитрить в глазах Лизаветы Романовны, я так бывал поражён страшной картиной изобличения моего, которое казалось мне неминуемым, что всякий раз удерживался от своего желания.
Глава III
Астраханский губернатор
Погода стояла обыкновенно тихая, самая благоприятная для комаров и мошек, что родятся тут легионами. Иногда, прогоняемые ветром, налетавшем с моря, в другое время они досаждают не только охотникам, за дрофами и турланами бродящим по камышам, но и на самый городской рынок забираются. Купцы и мужики, запирая вечером свои лавки, бывали щедро украшены вздувшимися и окровавленными следами нападений сих врагов. По утру же воздух бывал от мошек свободнее, солнце не жгло нещадно, тишину улиц редко ещё нарушали шаги поспешающих к своему делу жителей. В такой час я выбирался из жилья и отправлялся на прогулку за заставу вдоль городской стены, оканчивая свой путь у базарной лавки, где покупал что-нибудь приятное к столу Лизаветы Романовны.
Однажды, проделывая обычный свой путь, увидал я красавца-всадника, направляющегося в город. Ни дать, ни взять сказочный царевич со знаменитой картины Васнецова «Иван царевич на сером волке». Две польские собаки бежали перед ним. Одной рукой правил он лошадью, другою – любовно придерживал сидящего на рукавице кречета. Как схожи хозяин и птица смелым взором, как ярко выражение правды и благородства разливается по всему их облику! Гордая ли птица обернулась дивным витязем, или красный молодец ясным соколом? Всадник заметил меня и пришпорил лошадь. Несколько человек свиты его, которой я, восхищенный предводителем, сначала не приметил, поспешили следом. Кречет беспокойно дернулся, колокольчик звякнул в хвосте его.
– Не тревожься, Колубей, – промолвил всадник и добавил приветливо ко мне, – Прекрасный день, господин путешественник! Вы, верно, недавно в Астрахани? Для приятности познавания сих мест или для иного дела?
– Благодарю, сударь. Я здесь, точно, для приятности познавания, – отвечал я, смутившись внезапному знакомству и не зная до чего отнести знаки, подаваемые мне из-за спины моего собеседника, одним из челядинцев его, широкоскулым, очень сметливым на вид молодым татарином.
– Познавание ваше касается ли описания географии, истории или может служить к сведениям о народах сию землю населяющих? Сколько в иностранных книгах о том ни писано, ко славе российской служить не может, потому что сочинители тех книг, яко иностранцы, которые в России ненадолго пребывание имели и Российского языка довольно не знали и довольных способов к такому важному делу не имели, также иногда, следуя своим пристрастиям, сущей правды не высмотрели, или иные, и не бывши в России, к описанию об оной устремились, и одни из сочинений других выписывали или неосновательным разглашениям поверили, или только то, что в публичных ведомостях объявляется, за основание приняли. Из чего явно, что такие историки ничего обстоятельного, совершенного и достоверного написать не могли. Но паче всего сожаления достойно, что они разумный свет толикими неправдами оповещают, а тот им и верит. Вот кабы кто из русских людей, совестливых, просвещенных и дельных за такой труд взялся, немалую пользу отечеству принёс, а имени своему – честь.
– Господина Татищева разумеете, господин полковник? – подсказал тот же челядинец, что подавал мне знаки, и я догадался, что он желал сообщить мне высокий чин господина своего.
– Кого же другого, Василий? Конечно, его. Ежели к сему делу и описание географии о всей Российской империи сообщить, как оное историческим образом обыкновенно отправляется, то сие равным образом не бесполезно.
– Так-то оно так, государь мой, – отвечал татарин, – Оно точно, господин Татищев весьма просвещен, обучался и в Берлине, и в Дрездене, и в Бреславе, да только теперь столь отягощен делами по горной канцелярии, что не знаю сыщет ли сил к сочинительству. У него и тяжба с Демидовым, и по Егошинскому да Уктусскому заводам хлопоты. Дороги торит через леса-болота, особливых для завода судейских учреждает, почту исправную, горные школы, инструкции по обереганию лесов…
– Всего не перечтешь, Василий, и не трудись. Однако, охота пуще неволи. Василий Никитич великий есть до истории охотник, притом и добрый патриот. А что до тяжбы с Демидовым, то он, слышно, ее авантажем своим покончил и теперь советник Берг-коллегии. Как о том мыслите? – отнёсся снова ко мне говоривший, – Ведь вы приезжий и не знаете ещё сей глухой стороны – здесь образованного человека за редкость встретить, и я такой редкости упустить не хочу. Не угодно ли будет у меня нынче обедать? Не угодно ли и имя своё назвать?
Я представился и узнал, в свою очередь, что говорил с самим губернатором Астраханским.
Тем же днём явился я к нему в дом, разумеется без «сестры своей, которая очень неможет» и застал за «смотрением лошадей». Губернатор стоял на крыльце, перед которым конюхи заставляли бегать многочисленных обитательниц конюшни. Среди них были настоящие красавицы – представительницы берберийской, черкесской, персидской породы.
– Отчего у Метелицы бок колот? Опять к водопою место не поразчистили или прутья сучковатые в загородок пустили!? Так, Кузьма Степанов, ты мне всех лошадей, а паче молодых и норовистых переколешь!
– Как можно прутья негодные в загородок пускать!? Разрази меня гром, коли виноват! А к водопою сам всякий раз за лошадьми хаживаю. Дитя там не оцарапается, не песок – шелк.
– Так где же она так набрюшатилась?
– Разве жеребец неаполитанский напугал? Такой шустрый, избави Бог! Метнулась, да обо что ни есть и напоролась.
– Разве я приказывал того жеребца к ней припускать!?
– Точно, прямо не приказывали, но как много жеребца того хваливали, я и заключил…
– «Заключил»… Ничего ты, Кузьма, не смыслишь и паче разумения своего чинишь. Вперед спрашивай, а от своего безумия не приказывай. Пусть тот жеребец стоит покамест особливо и отнюдь его к кобылам до лета не пускать. А что до Метелицы, то коли теперь ожеребится, никакой породы от нее уж будет не сыскать, и все твоей глупостью.
– Виноват, государь мой.
– Не крушись, знаю, от усердия учинил. Не всякое лыко в строку! А Голубь, смотрю, совсем оправился?
– Изволите видеть, как ходит – королей одних носить! Пятый год, в самой поре. Словно и не хворал никогда. Орел – не конь!
– Голубь, все ж таки не орел, но подведи – полетаю.
Губернатор прыгнул на неоседланного коня, «полетал» по двору, натешившись, бросил Кузьме повод вместе с приказом:
– За лошадьми изрядно глядишь. Ступай, скажи Василию пусть выдаст тебе сукна на кафтан.
– И вы, господин Засекин, желаете испробовать моих лошадей? – отнесся он ко мне, – Метелицу или Персефону возьмите – не покаетесь! Не хочу хвалиться, но ласкаюсь не приходилось вам и встречать таких.
– Благодарю, – неопределенно отвечал я, не зная, чем лучше зарекомендовать себя, неосторожной ли попыткой справиться с норовистою лошадью или благоразумным отказом от подобной чести. Верно раздумье слишком явно отразилось на лице моем, губернатор улыбнулся.
– Вижу, вы не охотник до лошадей. Так идемте в дом.
Скоро сойдясь с семейством губернатора, состоявшем из супруги Александры Львовны и дочери Анютушки – девочки, едва выучившейся твердо ходить, я понял, что немалое утешение доставлю Лизавете Романовне, сделав ей это знакомство. Александра Львовна была дамою набожной, без малейшей тени ханжества или суеверия, образованной по-тогдашнему очень хорошо, изящной и милой. Какая красавица не отдаст внешние свои качества за такие превосходные свойства? Какой мужчина не преисполнится уважения и симпатии к особе, наделённой столь щедро? Пара эта напоминала семейство пернатых, в котором обыкновенно глава – весь блеск, сияние, величавость, а половина его – кротость, скромность, не броскость по виду, по серой простоте оперения, но драгоценность по сути, по своим свойствам. Александра Львовна умела отличать и подбирать в штат слуг людей честных, добрых, учтивых.
Удивительно ли что дом губернатора постоянно наполнен был гостями, приживальцами, попросту нахлебниками, которые приходили «речи господина губернатора послушать», а заодно и плотно пообедать. Все – от архиерея до пленных шведских солдат – находили тут радушный приём. Из числа последних составился квартет музыкантов, отправлявших дело свое во время званных обедов. Число челядинцев постоянно возрастало.
За стол с собою не пущу
Надменных, злых, неблагодарных;
Моей трапезой угощу
Правдивых, честных, благонравных,
К благим и добрым буду добр.
И где со мною ни сойдутся
Лжецы, мздоимцы, гордецы, —
Отвсюду мною изженутся
В дальнейшие земны концы,
Иль казнь повергнет их во гроб.
Чтением этим я угодил окружающим более прежнего, а Жильцов с одушевлением убеждал меня преподнести вирши самому губернатору, под видом оды. «Он сам – точно с натуры писано» – переговаривались мои доброхоты.
– Назовите сии вирши «Праведный судия» – подсказал канцелярист Теплаков, – или «Нелицемерный судия».
– Вы правы, Александр Семёнович, поэт так и назвал эти вирши: «Праведный судия».
С тех пор не раз читывал я Державина, Ломоносова и Сумарокова перед Лизаветой Романовной и неразлучной её Федосьей. Конечно, хотя я и весьма увлекался перечисленными поэтами, на память знал далеко не всё, да иногда и перевирал, и сокращал то, что читал, но слушательницы мои, разумеется, не могли того приметить. Часто казалось мне досадным, читывать только чужие стихи, и я пытался составить собственные, но что они были в сравнении со строками помянутых авторов!
«… манит меня сия чудесна тайна,
и радостью дарит необычайной,
гласит она «отдай всё – и пребудет,
себя сгуби – и не убудет».
Кончаю я постылую разлуку,
Откладываю я сердечну муку,
Как долог, скушен, сер был век унылый,
Но как искрится он перед могилой!
Увижу тень заветну, милые черты,
Воскликну в счастье я:
«Там парадиз, где ты!»
Я не читывал и не показывал своих стихов, хотя мне приходила в голову мысль выдать их за неудачные вирши Сумарокова. Но представляя себе, что должен буду хитрить в глазах Лизаветы Романовны, я так бывал поражён страшной картиной изобличения моего, которое казалось мне неминуемым, что всякий раз удерживался от своего желания.
Глава III
Астраханский губернатор
Погода стояла обыкновенно тихая, самая благоприятная для комаров и мошек, что родятся тут легионами. Иногда, прогоняемые ветром, налетавшем с моря, в другое время они досаждают не только охотникам, за дрофами и турланами бродящим по камышам, но и на самый городской рынок забираются. Купцы и мужики, запирая вечером свои лавки, бывали щедро украшены вздувшимися и окровавленными следами нападений сих врагов. По утру же воздух бывал от мошек свободнее, солнце не жгло нещадно, тишину улиц редко ещё нарушали шаги поспешающих к своему делу жителей. В такой час я выбирался из жилья и отправлялся на прогулку за заставу вдоль городской стены, оканчивая свой путь у базарной лавки, где покупал что-нибудь приятное к столу Лизаветы Романовны.
Однажды, проделывая обычный свой путь, увидал я красавца-всадника, направляющегося в город. Ни дать, ни взять сказочный царевич со знаменитой картины Васнецова «Иван царевич на сером волке». Две польские собаки бежали перед ним. Одной рукой правил он лошадью, другою – любовно придерживал сидящего на рукавице кречета. Как схожи хозяин и птица смелым взором, как ярко выражение правды и благородства разливается по всему их облику! Гордая ли птица обернулась дивным витязем, или красный молодец ясным соколом? Всадник заметил меня и пришпорил лошадь. Несколько человек свиты его, которой я, восхищенный предводителем, сначала не приметил, поспешили следом. Кречет беспокойно дернулся, колокольчик звякнул в хвосте его.
– Не тревожься, Колубей, – промолвил всадник и добавил приветливо ко мне, – Прекрасный день, господин путешественник! Вы, верно, недавно в Астрахани? Для приятности познавания сих мест или для иного дела?
– Благодарю, сударь. Я здесь, точно, для приятности познавания, – отвечал я, смутившись внезапному знакомству и не зная до чего отнести знаки, подаваемые мне из-за спины моего собеседника, одним из челядинцев его, широкоскулым, очень сметливым на вид молодым татарином.
– Познавание ваше касается ли описания географии, истории или может служить к сведениям о народах сию землю населяющих? Сколько в иностранных книгах о том ни писано, ко славе российской служить не может, потому что сочинители тех книг, яко иностранцы, которые в России ненадолго пребывание имели и Российского языка довольно не знали и довольных способов к такому важному делу не имели, также иногда, следуя своим пристрастиям, сущей правды не высмотрели, или иные, и не бывши в России, к описанию об оной устремились, и одни из сочинений других выписывали или неосновательным разглашениям поверили, или только то, что в публичных ведомостях объявляется, за основание приняли. Из чего явно, что такие историки ничего обстоятельного, совершенного и достоверного написать не могли. Но паче всего сожаления достойно, что они разумный свет толикими неправдами оповещают, а тот им и верит. Вот кабы кто из русских людей, совестливых, просвещенных и дельных за такой труд взялся, немалую пользу отечеству принёс, а имени своему – честь.
– Господина Татищева разумеете, господин полковник? – подсказал тот же челядинец, что подавал мне знаки, и я догадался, что он желал сообщить мне высокий чин господина своего.
– Кого же другого, Василий? Конечно, его. Ежели к сему делу и описание географии о всей Российской империи сообщить, как оное историческим образом обыкновенно отправляется, то сие равным образом не бесполезно.
– Так-то оно так, государь мой, – отвечал татарин, – Оно точно, господин Татищев весьма просвещен, обучался и в Берлине, и в Дрездене, и в Бреславе, да только теперь столь отягощен делами по горной канцелярии, что не знаю сыщет ли сил к сочинительству. У него и тяжба с Демидовым, и по Егошинскому да Уктусскому заводам хлопоты. Дороги торит через леса-болота, особливых для завода судейских учреждает, почту исправную, горные школы, инструкции по обереганию лесов…
– Всего не перечтешь, Василий, и не трудись. Однако, охота пуще неволи. Василий Никитич великий есть до истории охотник, притом и добрый патриот. А что до тяжбы с Демидовым, то он, слышно, ее авантажем своим покончил и теперь советник Берг-коллегии. Как о том мыслите? – отнёсся снова ко мне говоривший, – Ведь вы приезжий и не знаете ещё сей глухой стороны – здесь образованного человека за редкость встретить, и я такой редкости упустить не хочу. Не угодно ли будет у меня нынче обедать? Не угодно ли и имя своё назвать?
Я представился и узнал, в свою очередь, что говорил с самим губернатором Астраханским.
Тем же днём явился я к нему в дом, разумеется без «сестры своей, которая очень неможет» и застал за «смотрением лошадей». Губернатор стоял на крыльце, перед которым конюхи заставляли бегать многочисленных обитательниц конюшни. Среди них были настоящие красавицы – представительницы берберийской, черкесской, персидской породы.
– Отчего у Метелицы бок колот? Опять к водопою место не поразчистили или прутья сучковатые в загородок пустили!? Так, Кузьма Степанов, ты мне всех лошадей, а паче молодых и норовистых переколешь!
– Как можно прутья негодные в загородок пускать!? Разрази меня гром, коли виноват! А к водопою сам всякий раз за лошадьми хаживаю. Дитя там не оцарапается, не песок – шелк.
– Так где же она так набрюшатилась?
– Разве жеребец неаполитанский напугал? Такой шустрый, избави Бог! Метнулась, да обо что ни есть и напоролась.
– Разве я приказывал того жеребца к ней припускать!?
– Точно, прямо не приказывали, но как много жеребца того хваливали, я и заключил…
– «Заключил»… Ничего ты, Кузьма, не смыслишь и паче разумения своего чинишь. Вперед спрашивай, а от своего безумия не приказывай. Пусть тот жеребец стоит покамест особливо и отнюдь его к кобылам до лета не пускать. А что до Метелицы, то коли теперь ожеребится, никакой породы от нее уж будет не сыскать, и все твоей глупостью.
– Виноват, государь мой.
– Не крушись, знаю, от усердия учинил. Не всякое лыко в строку! А Голубь, смотрю, совсем оправился?
– Изволите видеть, как ходит – королей одних носить! Пятый год, в самой поре. Словно и не хворал никогда. Орел – не конь!
– Голубь, все ж таки не орел, но подведи – полетаю.
Губернатор прыгнул на неоседланного коня, «полетал» по двору, натешившись, бросил Кузьме повод вместе с приказом:
– За лошадьми изрядно глядишь. Ступай, скажи Василию пусть выдаст тебе сукна на кафтан.
– И вы, господин Засекин, желаете испробовать моих лошадей? – отнесся он ко мне, – Метелицу или Персефону возьмите – не покаетесь! Не хочу хвалиться, но ласкаюсь не приходилось вам и встречать таких.
– Благодарю, – неопределенно отвечал я, не зная, чем лучше зарекомендовать себя, неосторожной ли попыткой справиться с норовистою лошадью или благоразумным отказом от подобной чести. Верно раздумье слишком явно отразилось на лице моем, губернатор улыбнулся.
– Вижу, вы не охотник до лошадей. Так идемте в дом.
Скоро сойдясь с семейством губернатора, состоявшем из супруги Александры Львовны и дочери Анютушки – девочки, едва выучившейся твердо ходить, я понял, что немалое утешение доставлю Лизавете Романовне, сделав ей это знакомство. Александра Львовна была дамою набожной, без малейшей тени ханжества или суеверия, образованной по-тогдашнему очень хорошо, изящной и милой. Какая красавица не отдаст внешние свои качества за такие превосходные свойства? Какой мужчина не преисполнится уважения и симпатии к особе, наделённой столь щедро? Пара эта напоминала семейство пернатых, в котором обыкновенно глава – весь блеск, сияние, величавость, а половина его – кротость, скромность, не броскость по виду, по серой простоте оперения, но драгоценность по сути, по своим свойствам. Александра Львовна умела отличать и подбирать в штат слуг людей честных, добрых, учтивых.
Удивительно ли что дом губернатора постоянно наполнен был гостями, приживальцами, попросту нахлебниками, которые приходили «речи господина губернатора послушать», а заодно и плотно пообедать. Все – от архиерея до пленных шведских солдат – находили тут радушный приём. Из числа последних составился квартет музыкантов, отправлявших дело свое во время званных обедов. Число челядинцев постоянно возрастало.