
Всенародная Книга Памяти Светлогорского городского округа
Когда началась война, Степан вместе со своими братьями ушел в партизаны. Бабушка тоже частенько наведывалась в отряд: еду готовила, обстирывала партизан. Но и дома старалась бывать, у нее были сын и дочь, за которыми нужен был присмотр.
Однажды к бабушке прибежал запыхавшийся связной: «Степановна, бери детей, и срочно в лес. Каратели обнаружили отряд, Степана взяли раненым, твоих братьев тоже. Их семьи мы уже предупредили, беги, скоро сюда по твою душу полицаи прибудут».
Мы быстро собрались, и в лес, благо, бабушка его знала, как свои пять пальцев.
Позже нам рассказали, что случилось после нашего побега. Семьи двух братьев успели спрятаться, а вот жена Степана с детьми не успела. Их схватили полицаи, они были не белорусы, бабушка всегда их называла западенцами.
Вокруг деревенского колодца поставили три виселицы. Надели петли на шеи всем трем братьям. Но не спешили выбивать из-под ног пни, на которых они стояли. Сначала хладнокровно, штыками, закололи всех пятерых ребятишек и сбросили их в колодец. Потом казнили мужчин, последней закололи жену Степана. И тоже сбросили в колодец.
Уже после войны, когда мы жили в Светлогорске, наша бабушка каждый год, на годовщину смерти родных, ездила в Гомельскую область, к тому самому колодцу. И обязательно брала с собой кого-то из внучат, нас у нее было 14 мальчишек и девчонок. Первой поехала я, как самая старшая, потом из года в год все остальные.
Нам бабушка всегда рассказывала про войну. Несмотря на все лишения и страдания, она прожила долгую жизнь – одного года ей не хватило до столетия.
В тот страшный день ей с двумя детьми удалось спастись. Но ненадолго. Молодежь в 1943-м часто угоняли в Германию. Однажды схватили и мою маму – Анну Лукьяновну. Она к тому моменту уже была беременна мною.
Слово «Бремен» для меня не связано с бременскими музыкантами. В этом городе находился концентрационный лагерь, где я и родилась 5 июля 1944 года.
Мама всегда вспоминала, что ей просто повезло. Она попала к одному бауэру. Когда тот узнал, что мама умеет очень вкусно готовить, то обязанность кормить большую семью помещика он возложил на нее. Наверное, на сельскохозяйственных работах ей, кормящей матери, пришлось бы гораздо труднее.
Нас освободили американцы. Мама всегда со слезами вспоминала, как их, молодых женщин, уговаривали американцы: «У вас на родине все разрушено, вас ждут голод и унижения, а вот США война не затронула. Поедем с нами: какая вам разница, где работать? Но у нас вы будете накормлены».
Наверное, кто-то соглашался, но только единицы. «Мы очень хотели вернуться домой», – всегда повторяла мама.
Ее брат, мой дядя Ваня, который пацаном помогал партизанам, отправился на учебу. А мы с бабушкой и мамой в 1946 году приехали в Калининградскую область.
«Приехали мы на маленькую станцию Кляйн Гни, это в 45 км от нынешнего Правдинска, – рассказывала бабушка. – Выгрузились». «Как станция называется?» – спросил кто-то.
Посудили-порядили и пришли к интересному решению. А давайте назовем эту деревушку Мозырем. Пусть название напоминает нам о малой родине. Мы из Мозыря уехали и в Мозырь приехали. Вот так и назвали…
У моей мамы было 8 детей, у меня чуть меньше – пятеро. Было у меня семь внуков, осталось шесть. Мой внук, 27-летний Сергей Степанчук, капитан-пограничник, начальник заставы героически погиб в Армении, отбивая налет на заставу с иранской стороны.
А внучка Татьяна Ивлева, майор полиции, проходит службу в Светлогорске. Не так давно вернулся из армии еще один внук. Спрашиваю: может быть, стоило на сверхсчрочную остаться, или в военное училище поступить? Не могу, отвечает, я же вижу, бабуля, что ты до сих пор по Сереже плачешь… Плачу, не скрываю.
Но все равно я счастливая. В России вот-вот наступит 75-я мирная весна…
Ю. МоскаленкоЕлизавета Шокарева
Сколько Елизавете Фадеевне лет, доподлинно неизвестно. По ее словам она родилась в 1919 году, но когда в возрасте девятнадцати лет пошла устраиваться на работу, ее не приняли, мол, ты еще недостаточно взрослая. Пришлось девушке «приписать» себе год, чтобы взяли.
Положение у Лизы было трудное – ее мама умерла при родах, отцу лишний рот был абсолютно ни к чему, тем более, что он женился, а чужого ребенка мачеха брать не хотела, своих бы прокормить.

Лиза попеременно жила то у одних родственников в деревне, то у других. Все ее жалели, но все равно она никогда вдосталь не наедалась, была хрупкой и бледной, в чем только душа держалась. Вот потому первый ей раз и отказали в приеме на работу.
Официально, в документах пенсионного фонда России, значится, что Е.Ф. Шокарева родилась в 1920 году. Стало быть, в нынешнем году ей исполнится ровно 100 лет. Елизавета Фадеевна жила перед войной под Семипалатинском, в Казахстане, девушка работала на фабрике первичной обработки шерсти. Была секретарем первичной комсомольской организации.
Вышла замуж перед войной, в семье родилась дочь Вера.
В июне 1941 года всех комсомольских вожаков предприятий собрали в горкоме и направили на мясокомбинат, который в отличие от других заводов и фабрик работал круглосуточно.
Вначале Елизавета работала в отделе кадров, но как только на комбинате случался большой «прорыв», например, осенью, во время массового забоя скота, всех служащих отправляли в цеха. Елизавета Фадеевна работала в консервном цеху, в котором для фронта выпускали тушенку.
На основных линиях трудились опытные рабочие, а помощники выполняли менее квалифицированную работу.
Ее муж работал здесь же, был механиком по ремонту машин. У него в кабинете стоял топчан, на который он и падал без сил, чтобы хотя бы несколько часов, а то и минут, подремать. Но, как правило, сон был недолог – перегруженные станки и оборудование работали на износ и время от времени выходили из строя. И нужно быть готовыми всегда, чтобы простои не были длительными. За это очень строго спрашивали.
Запомнился Елизавете Фадеевне такой случай: однажды девушка, дежурившая в радиоузле, не смогла побороть сон и заснула. А в трудовом коллективе мнения разделились: одни жалели уставшую девушку, другие – осуждали: как ты могла? Это же твой боевой пост…
Питание было чуть получше, чем на остальных предприятиях. Давали паек: чуть хлеба, чуть жира, да иногда по нескольку обвалочных костей – это когда мясо состригается подчистую. Но бульон все равно казался сытным и сказочным, когда в кастрюлю отправляли такую кость.
А как же мясо? Его-то вроде было достаточно? Но абсолютно все мясо закатывали в банки и отправляли на фронт.
Были такие изможденные люди, которые пытались что-то вынести с комбината. Но если у работка что-то находили на проходной – такого «несуна» тут же отправляли под суд. И срок давали реальный, не смотрели ни на положение, ни на возраст…
Конечно, болело у Елизаветы сердце за свою малышку, видела она ее гораздо реже, чем хотелось. Так, в первые свои годы, дочь повторила ее судьбу. Мужа за территорию комбината практически не выпускали, а к прочим заботам у молодой женщины прибавился еще и огород. Распахали землю за комбинатом, нарезали небольшие наделы, и каждый имел возможность выращивать здесь картофель. Правда, чаще всего бывало, что наведывались сюда не чаще четырех раз за лето: посадить, пару раз окучить и убрать урожай.
Вот так и выжили…
Потом в семье родилась и вторая дочь – Нина.
– В Светлогорский городской округ мы приехали относительно недавно – в 2006 году, – рассказывает Нина Ефимовна Анциферова, дочь Елизаветы Фадеевны. – Дело в том, что мой сын Игорь окончил военное училище, был направлен на службу в поселок Донское. А мы все никак не могли тронуться из Казахстана. Сначала болел мой папа, он прожил 91 год, только когда его похоронили – решили перебираться к Игорю.
Конечно, это очень тяжело – сорваться с места, практически все оставить. Но мы всегда смотрим на маму, у которой сейчас уже четыре внука, два правнука и один праправнук. Ведь ей в войну было гораздо тяжелей…
Александра Шпагина

Александра Григорьевна Шпагина, труженик тыла, родилась в Ленинграде. Когда фашисты взяли город в блокаду, 12-летнюю Александру вывезли в Новгородскую область. Детям тех лет приходилось работать в поле наравне со взрослыми, выращивали овощи. Жили в детском доме. После войны Александра поступила в педагогическое училище в городе Боровичи, там же работала в школе. Вышла замуж и уехала в мужем в Кызыл, в Тувинскую республику. Родила и воспитала детей. В 1995 году приехала к внукам в Светлогорск. Имеет награды за доблестный труд. Любит наш город и море.
Галина Юрьева
Горьковская область (ныне – Нижегородская) в первый же день войны отправила на фронт около десяти тысяч своих жителей. Причем практически все из них явились в военкоматы сами, не дожидаясь официальных повесток. А всего на фронт было призвано более восьмисот тысяч мужчин и женщин, родившихся в этом волжском регионе.

Одним из первых призвали старшего брата, ему уже 19 лет было. А средний брат пошел получать свидетельство о рождении, чтобы оформлять документы в шестнадцать лет, а его решили призвать в армию.
Ох, и наревелась тогда мама…
Но не только взрослые рвались помогать фронту, четырнадцатилетняя Галина вместе с подружкой решили, как можно скорее, устроиться на работу.
– Собрались работать почтальонами, чтобы быстрее доставлять семьям фронтовиков серые треугольники с фронта, внутри которых чернильным карандашом солдаты и офицеры писали о том, как бьют фашистов, – вспоминает Галина Алексеевна.
Признаться, мы были малы, слабосильны, а сумки с письмами и газетами весили с десяток килограмм. Да еще их носить нужно было не один километр. Так что на почте наши кандидатуры не одобрили, зато дали добрый совет: идите лучше в ФЗО, там хотя бы получите рабочие специальности…
Окончили мы ФЗО, и направили нас на военный завод. Уж не знаю, секретный ли он был или нет, но только мы делали свои детали, в другом цехе – свои, в третьем – третьи, а в сборочном цеху из них собирали изделия. Говорят, противогазы.
Работали мы по двенадцать часов. Утром просыпались по гудку и знали, что через несколько минут должны уже сидеть в вагонах поезда, который отвезет нас на завод.
Однажды случилась беда. На соседнем заводе имени Свердлова случилась диверсия – подорвали склады с готовой продукцией. Мы выгружаемся из вагона, а над головами снаряды и мины свистят. Мастера отогнали нас на безопасное расстояние, но мы же, пацаны и пацанки, очень любопытный народ. Хотелось посмотреть на настоящие мины, она были необычные, хвостатые.
В общем, некоторые из нас по снегу и побежали навстречу разрывам. Но нас остановили окриками: «Куда, скаженные, поубивает».
Но это был, пожалуй, единственный случай, когда чувство самосохранения отказало. Да, у нас было относительно спокойно: а вот на том же заводе имени Свердлова выпускали взрывчатку, но там, возможно, работали взрослые.
Проработала я на заводе всю войну, и даже после нее осталась тут же. Некуда было идти, по правде сказать.
Отец мой умер во время войны, мама – сразу после нее, и мне было очень тоскливо на малой родине. Вот я и приняла решение отправиться в поисках лучшей доли на самый запад страны, в Калининградскую область.
Приехали с подругами в Мамоново, устроились на рыбоконсервный комбинат. Было это в 1948 году.
В прошлом году внук с дочкой свозили меня на экскурсию, в современный Мамоново. Нашла дом, в котором когда-то жила, походила по улочкам, посмотрела издали на родной завод.
От нас не скрывали: в Калининградской области будет тяжело, ведь её только от немцев освободили.
Но действительность оказалась еще хуже. Поселили нас в дом без окон, без дверей – то ли во время войны разрушен был, то ли уже после нее все растащили.
Дом стоял на пригорке и был из красного кирпича. Все его так и называли – Красный дом.
Спустя полтора года после приезда в Мамоново, познакомилась с бравым моряком, офицером, он проходил службу на торпедном катере в Балтийске, а сюда время от времени наведывался.
Начали встречаться, поняли, что не равнодушны друг к другу. Поженились в 1950 году и прожили вместе почти полвека, большей частью в Пионерском. После хрущевского сокращения армии мой муж стал ходить в моря на рыболовецком судне, а я тут же, в Пионерском порту работала в коптильном цеху мастером.
После смерти мужа одной было очень трудно, откликнулась на просьбу дочери Валечки, переехала в Светлогорск. С тех пор тут и живу.
Лёля Яблонская
Ох, и тяжело начиналась жизнь у Лёли. Мама умерла еще до войны, когда малышке был год и девять месяцев. Ее вместе со старшей сестрой забрала бабушка, которая жила с еще одной дочкой.

– Жили мы в деревне Булгаки Россонского района, Витебской области, – вспоминает Лёля Петровна Яблонская, бывший несовершеннолетний узник фашистских концлагерей. – А когда началась война, никак не ожидали, что гитлеровцы появятся у нас так скоро.
Немцы наступали на Полоцк, а своих войск мы так и не увидели, поговаривали, что отправились они куда-то на учения, там их и «заперли» на полигоне.
…Как-то мимо нас проскочил небольшой отряд, и бабушка дала команду: всем в лес. Мы в чащу отбежали на полкилометра, отдышались, а бабушка говорит: «На войне всякое может случиться, бывает, люди теряются, но если вас спросят, откуда вы, всегда отвечайте: мы – полоцкие». Это мы со старшей сестрой хорошо запомнили…
В тот раз нам удалось отсидеться. Вообще, в деревню нашу фрицы не часто заглядывали, но всякий раз мы старались спрятаться в лесу. Но однажды они очень тщательно прочесывали лес. Обнаружили в нем всех, кто прятался. Вывели к деревне, погрузили в эшелоны и повезли в Германию. Было это уже перед освобождением Белоруссии, у тети Тани дочке тогда исполнилось года два.
Привезли нас в Германию. «Выкупила» нас для вечной каторги одна фрау. Брала на вырост – молоденькая женщина и три девочки. Ну и бабушка.
Как сейчас вижу перед глазами эту картину: тетю Таню увозят из имения с подозрением на тиф. Бабушка разволновалась, а потом в ночи легла спать. Утром просыпаемся, бабушка вроде спит. В обед тоже. Мне старшая сестра говорит: притомилась, видать, давай не будем будить.
Второй день спит. Третий. Попросили одного работника разбудить ее… Он стянул с головы замасленную кепку и произнес: «Померла».
Нас три девочки. Старшей – четырнадцать, она всю черную работу на ферме выполняет. Мне – восемь, уже не первый месяц пасу хозяйкиных гусей. А самую маленькую, дочь тети Тани, хозяйка каждый день трижды выгуливает. И девчонка уже русский язык не понимает, зато по-немецки как на родном с хозяйкой общается, так что мы всех слов и разобрать не можем. Возможно, хозяйка собиралась прикрыться нашей маленькой.
Когда пришли советские солдаты, то спросили нас: вы кто? Как учила бабушка, отвечаем: мы – полоцкие. Они и пишут в своих бумагах: две девочки. Мы пытаемся пояснить им, что и самая маленькая – наша. Но те не соглашаются: немчура. Кое-как объяснили, оставили её с нами.
Меня, как скелет, обтянутый кожей, решили подкормить после возвращения в Белоруссию, в детдоме. Там и разыскала меня тетя Таня. Спасибо ей.
В Калининградскую область я приехала в 1953 году. Жизнь сложилась, как у всех. Радости и огорчения, достижения и разочарования. Прошу всех: берегите мир!
Степан Ягунов
Степан Михайлович Ягунов родился в деревне Курково Горьковской области (ныне Владимирская) в 1920 году. Был поздним, пятым ребенком в семье. Кроме него были еще три сестры и старший брат. Степан рос работящим, крепким пареньком, и было в кого таким родиться. Отец служил, прошел много испытаний в гражданскую войну. Он рано женился, взял в жены девушку из соседней деревни, родилась дочка Валя. В 1940 году подошло время служить в армии. Много тогда ребят провожали всем народом с песнями, с плясками, под гармонь. Дома ждала молодая жена с дочкой, но…грянула беспощадная война. Как и многих, его отправили на фронт. В боях командир заметил его меткость в стрельбе, видимо пригодилось его охотничье умение. А также его смекалка, тихая поступь – все пригодилось в разведке.

Вспоминает его племянница Никольцева Мария, которой тогда в начале войны было 14 лет – «В округе тогда опустели все селения, мужчины ушли на фронт, остались женщины с детьми, да старики. И приходилось нам 12–14 летним работать в колхозе и выполнять наряду со взрослыми всю тяжелую работу. И пахали, и косили, и жали, и молотили, совсем не было техники, поэтому все приходилось делать вручную. Одна мысль была, лишь бы помочь своим отцам и братьям, да и самим прокормиться в это голодное время. Даже в то тяжелое время школа не переставала работать. Помнит она, как ждали почтальона, как бежали за ним и с надеждой спрашивали письма – треугольники. От Степана иногда приходили письма, из которых ясно было, какие ожесточенные бои шли на Волховском фронте, сколько трудностей выпало на долю их части. Но все, не жалея себя шли в бой».
В письмах Степана к жене Татьяне была любовь и просьба беречь себя и дочь. Затем было ранение и письма из госпиталя Ленинграда. А когда поправил здоровье, снова встал в строй. Последнее письмо пришло осенью 42 года. И все… Сколько ждали, верили, сколько слез было пролито. Закончилась война. У всех в деревне, кто встретил своих отцов, мужей, братьев была огромная радость. А кто потерял своего близкого любимого, у того – большое горе. Выясняли в военных архивах, надеялись, но был ответ – пропал без вести. И сколько таких без вести пропавших по всей стране.
Так и не вышла больше замуж Татьяна, сама воспитала дочь. Остались от любимого 13 писем… Дочь после учебы стала работать заведующей клубом, вышла замуж, родились внуки Степана: Алексей и Сергей. Они создали свои семьи, родились дети. И смотрят они на фото своего деда, а в общем-то молодого парня, который не успел пожить на земле, любить жену и детей. Эта война всю его жизнь перечеркнула. И сколько вот таких парней жизнь свою положили, чтобы детям, внукам и правнукам свободными жизнь продолжать. Берегите мир! Это большая радость, что 75 лет, как нет войны…
Петр Яковлев:
«Мы были важной целью для фашистских бомб»
Петр Петрович Яковлев родился во второй день нового, 1921 года. Гражданская война в стране продолжалась, но постепенно перемещалась на Дальний Восток.
Все трудности послевоенного голода и разрухи, его родители почувствовали на себе. И важнее всего им было в тот период выжить, сохранить и поднять на ноги детей.
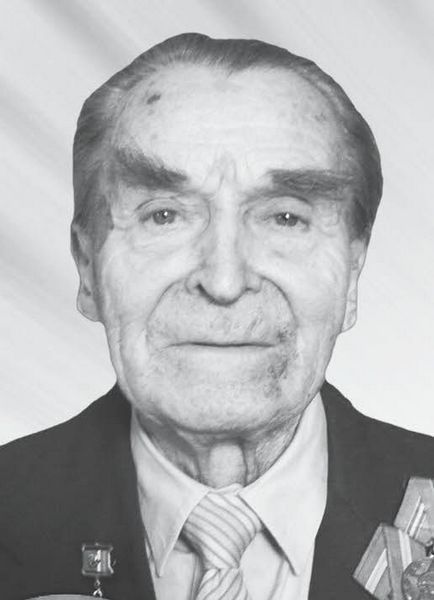
В Белоруссии, где в то время жила семья, люди старались помогать друг другу и «коллективным воспитателем» были не только родители и близкие, но и все советское общество.
Во времена расцвета социалистической индустриализации в СССР вовсю гремели имена тех, кто самоотверженным трудом старался не просто перевыполнять нормы производства, а во много раз превышать их.
И одним из первых в этом списке появилось имя ткачихи Евдокии Виноградовой, которая сначала обслуживала 16 станков, потом – 27, а уже в 1938 году ее более молодая однофамилица Мария Виноградова обслуживала уже 284 станка.
Так что 17-летний Петр выбрал такой же путь – поступил в Витебский текстильный техникум.
Впрочем, проучился не до конца – 17 сентября 1940 года его призвали в армию и направили в полковую школу, которая готовила будущих разведчиков для артиллерийско-зенитной артиллерии.
Если говорить современным языком – это были специалисты обслуживающие самые современные комплексы ПВО, как например, сегодня расчет комплекса С-400. В их задачу входило определение летящей цели противника: высота, скорость полета, цель, а также своевременное принятие решения – каким образом можно оперативно уничтожить врага.
И здесь нельзя было ошибиться, учитывая скорость летательных объектов и их боевые возможности. Математика, хладнокровие и четкий расчет – вот три кита, на которых базировалось настоящее мастерство.
Поэтому даже перед войной срок обучения подобных специалистов был гораздо больший, чем у «матушки-пехоты», артиллеристов и танкистов.
Спустя 9 месяцев после начала обучения, в июне 1941 года, полковая школа находилась на полигоне. А на фронт молодые специалисты попали месяцем позже, когда их главной задачей было прикрыть небо столицы от массированных налетов фашистской авиации.
Расчеты локационных станций были тщательно замаскированы, их дислокация была известна ограниченному кругу лиц.
Сегодня уже можно раскрыть некоторые данные. Расчет, в котором проходил службу Петр Яковлев, находился в Москве, между станциями метро Трикотажная и Митино, сейчас это Волоколамское шоссе.
Может случайно, а, скорее, по шпионской наводке их «вычислили» и обстреляли. Петр Петрович был ранен. Новый, 1942-й год, встретил в госпитале. Но рвался в бой. И добился своего – в марте 1942 года его направили командиром отделения связи в батальон инструментальной разведки.
Со временем Красная Армия получила несколько образцов локационных станций из Англии, на одной из которой и проходил службу Петр Петрович.
Гитлеровцы старались подавить такие станции в первую очередь, так что в случае обнаружения никогда не жалели бомб на их уничтожение.
Но с другой стороны именно благодаря Яковлеву и его боевым товарищам и в наступлении, и в обороне удалось сберечь десятки тысяч жизней тех, кто брал штурмом вражеские окопы, устремлялся в танковые прорывы, подавляли в артиллерийских дуэлях орудия противника.
… О войне Петр Петрович вспоминать не любит. Его фраза: «В нашем труде не было ничего героического, мы отвечали за свой участок борьбы с фашистом», засела в моей памяти надолго.
После войны он вернулся в родную Белоруссию, вернулся из землянок в землянки. Но никогда не терял присутствия духа. Вместе с супругой воспитал трех сыновей и дочь.
– И это главное наше достижение, – уверен Петр Петрович. – Мир, дети, внуки и правнуки…
А по основной специальности, так и не полученной в Витебском текстильном техникуме, герой войны так и не поработал. В Светлогорске он долгие годы добросовестно отвечал за общепит.
Ю. МоскаленкоВера Яксанова:
«Люди очень ждали сводки с фронта…»
– С началом войны, а мне было 14 лет, я оказалась в совхозе в Пензенской области, куда приехала в гости к своей старшей сестре, она работала учительницей физики в местной школе. Мужчины ушли на фронт сразу, в том числе и радист, который обеспечивал работу местного ретрансляционного узла связи. До райцентра от нас было 25 километров, новости доходили не каждый день, нужно было срочно восстанавливать радиоузел.

Моя старшая сестра со своими школьниками восстановили радиоприемник, который транслировал передачи на огромные тарелки, они хотя и не в каждом дворе, но были.
Потом сестру пригласили работать в райцентр. Уезжая, она сдала все свое радиохозяйство мне. Научила кое-чему, показала, как соединять провода, если будет обрыв. И «кошки» (специальное приспособление, чтобы взбираться на столб) оставила.
У нас нередки были ветра, так что обрывы случались довольно часто. У меня до сих пор перед глазами картина: дождь, ветер, а я карабкаюсь по столбу с плоскогубцами в зубах, из кармана платья инструмент мог вывалиться. Вскарабкаюсь на столб, зачищаю провода от ржавчины и соединяю их. И сколько раз эти провода могло замкнуть – одному Богу известно.
А еще у меня была одна почетная обязанность. Я приходила в радиоузел в 5 утра, слушала сводку от Советского Информбюро и записывала основные сообщения. Делала до десятка подобных записок, потому что к нам в совхоз за хлебом приезжали посланцы из близлежащих деревень, где даже радио не было. И я каждому человеку вручала эти сводки.
Однажды Левитан объявлял о взятии населенных пунктов. Но когда он называл цифру, связь пропала. И тогда я от себя написала – освобождено пять населенных пунктов. В тот же вечер меня вызвал директор совхоза и говорит: я, конечно, никому не скажу, но больше так не делай. Освободили четыре населенных пункта, а ты написала пять. Ты обманула людей. И тебя за это могут судить.

