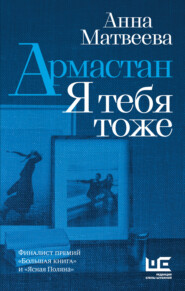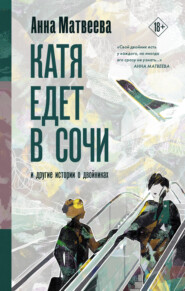По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Завидное чувство Веры Стениной
Серия
Год написания книги
2014
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Сильнее всех Вера не любила Пикассо, могильщика живописи. После него уже никто не осмелится рисовать как прежде. И хуже всего, что сам он был отличным рисовальщиком, художником, способным на всё, – а выбрал самое уродливое, потому что оно – новое. «Человек, создающий новое, вынужден делать его уродливым». О Пикассо старый преподаватель говорил два часа подряд, он его так ненавидел, что уже почти обожал. В тот день старик, увлёкшись, честно позабыл объявить перерыв, но Вера этого даже не заметила, выпала из времени. Одногруппницы – сплошные «…цы», девчонки – возмущённо вздыхали и демонстративно подносили к глазам запястья.
Ему говорили, он рисует лучше Рафаэля, – Вера знала, что старый преподаватель не любит и Рафаэля, как часто бывает с искусствоведами, – ему говорили, он рисует лучше Рафаэля, и это была правда. Потому что всегда кто-то рисует лучше, и только этому можно завидовать. Но у Пикассо не было зависти. Он говорил: если я рисую лучше Рафаэля, то есть же у меня право, по меньшей мере, выбирать свой путь? Люди должны признать за мной это право, но нет, они не желают.
Старый преподаватель в сердцах, словно бы от имени Пикассо, бросил в аудиторию гневный взгляд, но в ответ прилетело лишь бурчание тридцати девичьих желудков. Когда студенток выпустили наконец на волю, они сорвались с места, как стая голодных собак. Преподаватель поймал душистую волну, поднятую ветром юбок и распущенных волос, но одурел от неё лишь на мгновение. Он всегда читал стоя (старая школа!) – и теперь с чувством заслуженного права занял высокий стул, отдохнуть минут двадцать. Артроз коленных суставов – свирепая штука. Вера Стенина думала, что старик не замечает её – она в тот год перестала краситься, носила всё такое серенькое, как могильный гранит. Серая Стенина, верная серна. Но она ошибалась – старик её отлично видел: девочка чистая, как грунтованный холст. Проклятые колени!
– Вы сказали, что у Пикассо не было зависти, но ведь зависть есть у всех!
Старик поморщился, но быстро вспомнил, что молодость – это не только время здоровых коленных суставов, это ещё и период обобщений.
– Ему завидовали, это да. Страстно завидуют даже в наше время. Но я не представляю, кому бы мог завидовать Пикассо?
Вера теребила кисточку шарфа. Она не верила преподавателю потому, что знала о зависти больше его. А преподаватель, выпроваживая Веру, терзался кипящей, с пылу с жару, болью. Лучше бы Стенина спросила у него совета – где работать, чем заниматься?
Может быть, критика, – думала Вера. – Или книжки об искусстве, научно-популярные, для детей! Но правда была в том, что ей не хотелось ни того, ни другого. Мама однажды спросила: а что, если Вера сама начнет рисовать?
Будто забыла, какое тяжкое это было для дочери дело – любимое, как считается, детское занятие. Уроки изо в школе – унижение по расписанию, два раза в неделю по сорок пять минут. Юлькины рисунки висели на школьных выставках, чертила она, по мнению учителя, и вовсе божественно. А Вера не могла рисовать потому, что ясно видела картинку, которая уже сложилась у неё в воображении чётко, в деталях, в подробностях, – видела, но не умела перенести на лист бумаги. Компромиссов здесь быть не могло: или та самая картинка, или никакая, белый лист! Учитель, к сожалению, не мог оценить ненарисованную идею – он был из тех педагогов, что воспринимают учеников целым пластом, монолитом, классом в другом смысле этого слова. По отдельности каждый был всего лишь частью общего механизма, не более чем. Кроме того, любому – даже лучшему из учителей – всегда нужны результаты, высокие волны, иначе не видна работа. Собственно процесс учёбы или тем паче душа отдельно взятого ребёнка интересуют очень немногих. Поэтому Вера сидела над пустым листом, держала в руке сухую кисточку (колонковую, «всё лучшее – Вере») и ждала очередной двойки, которую учитель выводил в дневнике затейливым кренделем.
К несчастью, в университете всё вернулось: искусствоведов учат азам изобразительного искусства, чуть-чуть, как нашкодивших котят, окунают носом в акварель и гуашь. У Веры очень кстати открылась аллергия на гуашь, но все прочие техники ей следовало освоить и сдать. Надо было преодолеть дорогу от идеи до листа, и Вера двадцати лет от роду, зажмурившись, окунула кисть в баночку с коричневой краской. Рядом не было высокомерного учителя с его затейливыми двойками, не было Юльки и её божественных чертежей, вообще никого не было – дома, в своей комнате, Вера пыталась нарисовать мамину вазу из чешского стекла. У этой вазы не было никакой идеи. Ваза это ваза это ваза. Нарисуй – и получишь зачёт.
Потом настала пора портретов. Позировала девочка, которая училась курсом старше – у неё было сложное лицо, ужас, какая она некрасивая, думала Вера и так старалась выплеснуть своё недовольство этим лицом на холст, что чуть не забрызгала всё вокруг. А получилась – вполне симпатичная мордашка. Изящно, – пробормотал преподаватель, слово это было у него ругательным. Спустя несколько лет Вера снова увидела ту девочку – лицо натурщицы врезалось в память, словно камея. Удивительно, какая она была, оказывается, красивая!
Вера чертила и рисовала, но не думала о том, что это имеет какое-то отношение к искусству.
Наверное, я всё же стану критиком.
Копипасте мысль понравилась:
– Ты по жизни всех критикуешь!
Вера промолчала, хотя ком в горле рос с каждым проглоченным словом.
В июле, почти сразу же после отъезда Валечки, Вера вдруг начала мечтать о ребёнке. Чтобы сын, конечно. Её собственный детёныш. (Тот, кто отвечает за биологические часы, встроенные в каждую женщину, в случае Стениной явно поторопился – мало кто в девятнадцать лет представляет себя матерью.) А в сентябре, когда учёба ещё толком не началась и Вера слонялась по дому, не зная, чем себя занять, позвонила Юля Калинина и назначила встречу рядом с букинистическим магазином на улице Вайнера.
За окном в тот день был Левитан, осень девятьсот шестнадцатой пробы. Бывает такой сентябрь, что за него не жаль целого лета. Вера вышла из трамвая – тоже осеннего, жёлто-красного. Дедушка-памятник пытался снять с себя пальто и взмахивал рукой, подзывая гардеробщика. В сквере у ЦУМа продавали картины на массовый вкус. Уличный скрипач распиливал время на «до» и «после».
Летом из года в год Юлька уезжала к родственникам, в Оренбургскую область – однажды привезла оттуда Вере чёрно-зелёный, с жёлтой проплешиной арбуз, похожий на крокодила из детских книжек. Стенина не ждала Юльку раньше середины сентября.
Мышь вспрыгнула до самой гортани, как только увидела загорелую Калинину в джинсовых шортах и двух приставших к ней парней. Подруга быстро распрощалась с парнями – так стряхивают хлебные крошки с колен.
– Верка! Мне столько надо тебе рассказать!
Она просунула руку Вере под локоть – будто в плен взяла. Никак не может запомнить, я терпеть не могу ходить под руку.
Юльку душили новости, но она хотела преподнести их в соответствующих декорациях. Поэтому шла и давилась, говорила о погоде и орских степях, рассказывала о сестре из Оренбурга и брате из Бузулука. Вера отвоевала было свою руку, перевесив сумочку на плечо, чтобы Юлька не пыталась её больше схватить – но та просто обошла подругу с другой стороны и снова вцепилась ей в локоть. Добрались до Плотинки, спустились вниз к реке, перешли через мост – и там, среди чёрных скелетов заводских машин, Юлька открыла, наконец, великую тайну:
– Я беременна!
– Это хорошо или плохо? – спросила Вера. Мышь внутри плескала крыльями – опять не уберегла свою мечту! Ребёнок, малыш, бесценный мальчик – Вера просила его для себя… Не для Юльки!
Крылья зависти – как летательный аппарат с чертежей Леонардо.
Юлька улыбнулась:
– Сначала думала, что плохо. Девятнадцать лет, ни мужа, ни денег. А потом я попала на приём к дивному врачу. Елена Фёдоровна из консультации на Белореченской, помнишь?
Ещё бы не помнить. Носатая злая тётка, к которой Стенина пришла на следующий же день после того, как стала женщиной.
– Половой жизнью живёте? – громко, на весь район спросила её тогда Елена Фёдоровна. Вера с перепугу ответила невпопад:
– В переулке Встречном.
Пожилая медсестра (седая плюшка на затылке, бородавка под глазом – как окаменевшая слеза) подняла изумлённые глаза, а врачиха разозлилась:
– Мне неинтересно, где именно вы живёте половой жизнью.
– Я вчера, – блеяла Вера, – в первый раз…
– Член находился во влагалище? – проорала Елена Фёдоровна так зычно, что её могли услышать даже в трёх кварталах отсюда. Веру вынесло из кабинета и ещё долго носило по улицам, как сорванный ветром плакат об опасности венерических заболеваний.
А для Юльки эта Фёдоровна – дивный врач, «специалист, каких мало».
Вера гладила непонятный чёрный механизм, сложный как судьба – «Листопрокатная клеть с верхним приводом. Нейво-Шайтанский завод». Гладила нежно, словно кота, обделённого вниманием.
– Если бы не Елена Фёдоровна, – разливалась Юлька, – я бы точно пошла в абортарий, а мне, оказывается, нельзя. Отрицательный резус.
Вера отцепилась наконец от листопрокатной клети и увлекла Юльку выше, к «хвостовому молоту». Ему бы тоже пошли складчатые крылья летательного аппарата Леонардо. Юлька послушно шла, куда ведут, не смолкая ни на секунду. Рассказывала про единственный шанс родить здорового ребёнка.
– А отец кто? – не выдержала Стенина.
– Ну не Валентин же! – с гордостью сказала Юлька. – В Оренбурге познакомились. Мужчина-мечта!
Вера представила себе карамельку «Мечта» – лепёшку в розовом фантике. Она такие не любила, от «Мечты» болели зубы. Но, вообще, тут дело не в карамельках, а в том, что Юлька всегда приставляла к слову «мужчина» подпорку в виде дефиса и следом чёткую характеристику. Так появились мужчина-беда и мужчина-проблема, мужчина-песня и мужчина – последний герой, а вот этот, значит – мечта.
Юлька не щадила Вериных ушей, как живота своего. Живот её был плоский, будто щит, на котором приносят домой погибших рыцарей. Тазовыми косточками можно пораниться, если встанешь рядом в транспорте в час пик. Вера не очень внимательно слушала Юльку, зато смотрела на неё во все глаза. Прилетел комар, ополоумевший от бабьего лета – он медленно, не спеша описал круг вокруг Юлькиной головы, словно наметил траекторию нимба. А потом сел ровно посреди лба и нежно впустил хоботок под матовую кожу. Вера зачарованно смотрела, как комар пьёт кровь её беременной подруги – брюшко наливалось тёмной кровью, а Юлька ничего не чувствовала, только в самом финале комариной трапезы сморщилась и треснула себя по лбу ладошкой:
– Комар, что ли?
* * *
Беременность – прежде всего бремя. Вера подумывала взять эти слова эпиграфом к новой мысленной выставке «Ожидание». Не сказать, чтобы эти выставки были достойным приложением её таланта, так никем и не востребованного. Он и самой Вере казался излишним органом, вроде аппендикса. Дар из тех, что принимаешь, смущаясь и благодаря, а сам в панике соображаешь, кому бы его пристроить? На пике отчаяния – то был удобный пик с обширной площадкой, где можно провести несколько дней, не опасаясь рухнуть вниз, – она вдруг начала составлять выставку, подбирая работы разных веков, художников и стилей. Первая мысленная выставка называлась «Бегство в Египет» – без объяснений, что да почему. Тогда, после сцены в мастерской Вадима, Вере хотелось убежать хоть куда, необязательно в Египет – главное, убежать, прихватив с собой мечты, которые никто не станет отслеживать.
Мысленные выставки позволяли брать что угодно – Вера отбирала картины, гравюры, фрески, миниатюры из роскошных часословов тщеславных герцогов, картоны, гобелены и скульптуры. Надменная Мадонна Джотто, протёртые от времени небеса, золотые блюда нимбов. Копыта ослика стучат слишком громко, и потому Иосиф смотрит на него с укоризной. Божественный Младенец устал, как устают обычные, не божественные дети, от мерного покачивания он вот-вот уснёт, но это «вот-вот» звучит как стук копыт – и от фрески идёт жаркая волна изнурительного дня.
У Рембрандта – другая история. Без начала и финала, выхваченная световой вспышкой и снова канувшая в темноту. Мария, беженка, кутается в одеяло – конечно же голубое. А Иосифа как жаль – ступает босыми ногами по выстывшей ночной земле! Ослик боится, страшно ему, но куда деваться – надо идти дальше, в Египет… У Джентилески[8 - Орацио Джентилески – итальянская художница эпохи барокко.] Святое семейство отдыхает, Мадонна кормит младенца, но не может открыть глаз от усталости, Иосиф храпит – впоследствии Вера едва не оглохла, разглядывая эту картину в Лувре. Не спит у Джентилески только младенец, один в темноте, в незнакомом пейзаже… Мария кисти Альтдорфера[9 - Альбрехт Альтдорфер – немецкий художник, глава дунайской школы живописи.] моет младенца в фонтане – мама сказала бы здесь ужасное слово подмывает. Ясный день, в чаше фонтана резвятся мелкие, словно воробушки, путти, похожие на малютку Ленина с октябрятской звёздочки, а за синими горами, наверное, Египет.
Отличная была выставка, и после неё Вера тут же принялась за другую – «Читательницы». Звезда экспозиции – «Благовещение» Пинтуриккьо. Вера так увлеклась, что стала специально разыскивать подходящие работы – завела особый блокнот и знакомство в букинистическом, где всё чаще появлялись в продаже некогда дефицитные, а теперь никому не нужные альбомы по искусству.
Выставка «Ожидание» открывалась работой Шагала – юная беременная на фоне красных небес, будто внутри собственной утробы. Потом шла рыжая модель Климта, которая может начать рожать в любой момент. Бессчётные мадонны, чета Арнольфини Яна ван Эйка… Выставка была почти готова, живота у Юльки всё ещё не имелось, зато тошнило каждый день, утром и вечером. И веером, бывало что и веером. Юлька, не пропустившая за последний год ни единой политической новостюшечки, теперь едва-едва откликнулась на осаду Останкино и штурм Белого дома. Зато первый снег показался ей настолько тошнотворным, что она даже годы спустя помнила это чувство – мощное, сильное, отвратительное.