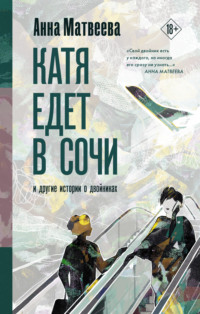Юбилейный выпуск журнала Октябрь
Галя долго так стояла перед Зайкой, в тишине размазывая что-то невидимое илистое по лицу.
Перед «Аметистом» тормозят белые «жигули». Из них выскакивает Ямов, громко хлопнув дверью.
– Галь! – зовет он, еще поднимаясь по лестнице. – Галь, там рыбаки твою Зайку нашли.
Галя хлопает дверцей прилавка, бежит, ударяясь боками о тесно поставленные холодильники. Сталкивается с Ямовым в дверях. Он останавливается – широкоплечий, низкий, с чересчур развитыми от косьбы руками.
– В водохранилище утонула? – спрашивает Галя, испытующе глядя Ямову в глаза.
– Утонула, – сглотнув, отвечает он.
Галя снимает через голову синий форменный фартук и кладет его на холодильник.
– А магазин не будешь закрывать? – спрашивает Ямов, садясь за руль.
– Пусть берут что хотят, – отвечает Галя и дальше, не отрываясь, смотрит через стекло на село, на сараи, из которых торчат золотом пучки соломы, на картошку, сочно зеленеющую на квадратных огородах, на мотоциклы, прислоненные к стенам низких, черных домов.
Галя не плачет и не собирается. Но ей хочется открыть окно и крикнуть: «Берите люди что хотите. Не в долг. И сколько вам надо».
– Утопилась она, – косо взглядывает на нее Ямов, как будто опасаясь ее реакции. – Рыбаки видели: сама зашла в воду. – Он молчит, ожидая, что Галя что-нибудь скажет, но она не говорит ничего. – Наверное, чувствовала, что смерть близко, не хотела, чтобы ты видела, – продолжает Ямов, не встречая ее возражений. – Пожалела она тебя… А может, сама зачем-то в воду зашла, коровы ведь – глупые. У них – ни мозга, ни души, – буднично, как будто застеснявшись, добавляет он.
Машина выезжает на берег водохранилища, и, увидев лежащую на земле Зайку, Галя трогает плечо Ямова – останови.
Она спешит по берегу. И чем отчетливей Галя видит Зайку, тем быстрей становится ее шаг. Когда между ними остается только десять метров, Галя бежит и, добежав, падает на колени перед мертвой коровой. Грубо и хрипло спросив: «Да что же это такое, а?» – она опускает руки на мокрую ляжку Зайки – туда, где рыбацкий багор зацепил ее, вывернул мясо. «Да неужели б я тебя когда зарезала?» – спрашивает Галя и орет. Без стыда и без совести лежа грудью на костлявом боку коровы, она причитает, глядя на воду, и вдруг начинает верить в то, что под водой прямо сейчас лежит самая добрая земля, и черемуха там в цвету стоит сугробом, и земляника краснеет с двух боков сразу, а баба и деда счастливы там, потому что живут еще жизнью на чистом листе.
Владимир САЛИМОН
В преддверии зимы
* * *Как на обломках самовластья живется? – спрашивали мыживущих в здании тюрьмы.И люди лыбились от счастья.Или от ненависти к нам,заезжим не по доброй воле –по делу службы господам:Как? Как? Обделались вы, что ли?Выглядывал в окно старик.Лохматые юнцы-подросткисосали пиво,ни на мигне выпуская папироски.Здесь был когда-то монастырь.Потом – тюрьма.Промчатся годы,и каменные рухнут своды.И образуется пустырь.* * *Прогалы в кронах,словно норырусалочьи среди ветвей.Прислушайся, их разговорыв грозу становятся слышней.Спешат укрыться на деревьях,торопятся занять места,как дети в многодетных семьях,они снуют туда-сюда.Мы их не видим.Духи лесанезримы, но в полночный частрещат, не выдержав их веса,стволы берез, пугая нас.* * *Лежа на спине в траве душистой,поднявшись на холм,смотря с моста –радостно,как будто Девой Чистойна небо душа твоя взята.Ощущенье легкости чудесной,словно от шипучки ледяной,словно нету тяжести телесной,мыслей, что довлели над тобой.Нет для достиженья высшей целиникаких существенных преград –ты летишь в красивом новом теле,устремивши ввысь бесстрашный взгляд.Выше птиц и звезд во тьме кромешной.Лучезарен, аки херувим,освещая путь улыбкой нежнойв небеса товарищам моим.* * *Давно таких не видел лиц –мальчишка, гладящий собаку,старик, кормящий булкой птиц,одетый в длинную рубаху.С такого написать портретАссизского Франциска можно,не расплескав небесный светиз глаз его неосторожно,не упустивши смысла словсвятого старца ненароком,не наломав при этом дров,чтоб нам они не вышли боком.И мальчика не позабыть,что к ближнему любовь прилежнощенку старается привить,чеша ему загривок нежно.* * *Наполовину скошен луг.Вторую половину лугакосить с чего бы это вдруг,зачем, с какого перепуга?Трава, достигнув своегопредела,не растет уж больше,но потеряться в ней легко.Потерянность – нет чувства горше.Оно становится поройсовсем-совсем невыносимым.Под мглистым небом,на сыройземле, пропахшей горьким дымом.* * *Кукурузу грызли не для сытости,но для удовольствия они –жертвы безотцовщины, забитости,как их называют в наши дни.А тогда мальчишки деревенскиевеличались местною шпаной,и ее шнурки интеллигентскиеобходить старались стороной.Полагая верхом неприличияговорить об этом вслух,теперьшепчутся о классовом различии,затворив на всякий случай дверь.А тогда Россия зубы скалилаи глядел с презреньем класс на класс,улыбаясь до ушей,как правило,носом шмыгая и щуря глаз.Будто бы бананами зелеными,хрумкая початками в кустах –крепкими, сырыми, несолеными,сея в наших слабых душах страх.* * *За час пути проселок вытряс душу,и тетка с сумкой у груди сказала:О Господи, зачем ты создал сушу,ужели тебе моря было мало?Уймись! –ответить мог Всевышний тетке,но промолчал, осекся на полслове,должно быть, глядя на ее обмотки,обноски,нос картошкой, дуги-брови.Быть может, осознав свою ошибку,подумал Он, что лучше было б все жеодеть дорогу в каменную плитку,пусть это и значительно дороже.Господь был милосерден не чрезмерно,однако – чересчур сентиментален,доверчив и покладист был,наверно,как самый распрекрасный русский барин.О Господи! – стенала тетка громко.И сумка на груди ее гремела.А в поле за окном мела поземка.И грусти нашей не было предела.* * *Кинопроектор зажевалфрагменты жизни нашей:Елкув Колонном зале,школьный бали свеклы сахарной уборку.Теперь следы заметеныи можно скрыть свою причастностьк истории родной страны.Свою любовь к ней и пристрастность.Как к женщине,которую давноуже не любишь, но ревнуешь,о прежней жизни все равнотоскуешь, Боже, как тоскуешь!* * *Легко ли жить с такими мыслями,что мы живем, как жмых жуем,и чувствовать при этом лишнимисебя людьми в краю родном?Хоть от Печорина и Чацкогоотличье наше велико,как будто бы до принца датского,до них нам крайне далеко,но все же в сердце отзывается14 декабрянедаром,буря поднимается,бьет в грудь и валит с ног не зря!* * *Отражаются в окнах вагонныхбесконечной чредой целый деньмножество областных и районныхгородов, городков, деревень.Отражения смутны, нечетки,потому и похожи онина давно пожелтевшие фоткинашей дальней-предальней родни.Кто есть кто, догадаться непросто.И приходят мне мысли на умпро земную юдоль и сиротство,видя синий в полоску костюм,платье белое в черный горошеки на скошенных чуть каблукахпару легких совсем (без застежек)двух сандаликов на ремешках.Боже правый,а где же то счастье,где та молодость, что вдруг прошла,что сгубило людей за напастье,что за вьюга в полях замела?* * *Нас разделяют многие границы –от климатических и часовыхдо государственных,открытых лишь для птиц,рассеянных в пространствах мировых.Они день ото дня – то тут, то там.Команда голоштанная повсюду –в лесах, в садах,а нынче в Божий храмвдруг залетела, что подобно чуду.Услышать крыльев шум над головойна Троицу в просторном светлом храме,который убран с вечера травойдушистой, свежим лапником, цветами,естественно,но жутко все равно,и потому бежит мороз по коже,и на причастье красное винои впрямь на кровь становится похоже.Подкатывает к горлу ком, когдая думаю, что это – кровь Господня,а вовсе не вино и не вода,что Агнец в жертву принесен сегодня.* * *Мы прыгали с грузовикав снег, под которым в мерзлой глинетак смерзлись тонны буряка,что сделались подобны льдине.Нас было тридцать человек,а буряка – не меньше тонны.Был серым и колючим снег.По краю поля шли вагоны.Никто не плакал и не пелв вагонах тех гнилых и ржавых,и черный паровоз летелпо рельсам в облаках кудрявых.Средь ночи подними меня,и я скажу, что видел ясно,как среди дыма и огнявзывал к нам Ангел громогласно.Но важным делом заняты,вниманья мы не обращали(поскольку не было нужды)на звуки, полные печали.* * *Пока в асфальт не закаталиМоскву-реку,мы на корабликепомчим в неведомые даливдоль стен Кремля,конфетной фабрики.Здесь в ход идут изюм и цедра,чтоб подсластить пилюлю горькуюроссийской жизни,там их щедроразводят сладкою настойкою.Струится аромат чудесныйнад парками, садами, скверами,где по дорожкам в день воскресныйгуляют дамы с офицерами.* * *Дожди пошли, похолодало.Тогда в преддверии зимысложивши вещи,одеяла,как беженцы, связали мы.На бегство больше походилото, что по сути был исход.Забытый в летнем душе мылакусок растаял, словно лед.В саду оставленное нами,перевернувшись как-то вдруг,лежало кресло вверх ногами,не шевелясь, как мертвый жук.Не стали мы на всякий случайпереворачивать жука,поскольку, как народ дремучий,боялись страшно мертвяка.осень 2019Александр БУШКОВСКИЙ
О любви не вышло…
рассказ
Времени нет,Чтобы прожить эту жизнь так, как надо.Времени нет,Чтобы принять любовь, как награду…Владимир Рудак…Не вышло о любви, хотя именно о ней я и собирался написать, размышлял, шел до последнего тупика. Или думал, что иду за ней… Да и кто о ней не думал? Кто не мечтал, не ликовал, не ревновал, не маялся. Кто спустя время не задумывался о том, что же это с ним произошло? Глупые вопросы.
И вообще начал несвязно. А ведь конкретная история стоит перед глазами. Но, как это случается, мысли о конкретном проросли в абстрактное и пустили там корни, а точнее, дали метастазы. Что и заставило меня нещадно обрубить их и попытаться оставить сухое и голое, похожее на бревно древо повествования. Однако и тут не получилось.
Тогда я решил изложить предысторию, а там уж как выйдет.
У меня есть хороший товарищ, Володя. Или Вова – как хотите. С друзьями он готов спокойно отзываться и на Вовчика, и на Вована. В отличие от меня, раздражающегося и на Шурика, и на Санька. Мне бы, конечно, льстило называться его другом, но не мешало бы быть скромнее, поскольку это единственное средство, хоть отдаленно приближающее мужчину к человеческому облику. Да и друг – он такой, знаете, со двора или со школьных времен или с какой-то заварухи-передряги типа войны или драки.
А мы познакомились уже довольно большими ребятами. Далеко за тридцать. Незадолго до того я принес свои мрачные опусы в редакцию журнала, а их, к моему удивлению, взяли и напечатали. Не то чтобы я стал ощущать себя писателем, нет, нашло сливную пробку черное, густое, медленно остывающее, отработанное масло, в каком до сей поры терлись и дребезжали мои уставшие от службы госмонстру внутренности. Все опилки мозга, выхлоп легких, короста сердчишка и шлаки печени. Пробку-то оно нашло, но свежего масла вместо него не залилось, и все это продолжало работать всухую, накаляя и без того перегретую голову.
Мне вечно хотелось выпить, а потом подраться или подраться, а потом выпить. Я всюду видел произвол, несправедливость и злой умысел. Искал обид, боялся жалости, насмешек и ночных кошмаров. Книжек почти не читал и писал по ночам всё какие-то страсти и ужасы. Курил. Мир вокруг казался мне неумной шуткой, а люди, за малым исключением, врагами или предателями. Кроме моих собственных переживаний, все остальное выглядело чепухой.
Тот номер, где меня напечатали, я все же прочел. Там были не задевшие меня стихи, такие же рассказы и статьи, но в конце – небольшая повесть о жизни обычного человека и его повседневных делах, о немного странных и даже абсурдных, грустно-смешных похождениях. Написано было легко, точно, без уже надоевшей, лезущей со всех сторон злой иронии и оставляло впечатление авторского кино с неожиданным сюжетом и простым открытым финалом. Мол, завтра наступит утро, потом день и приключения нашего героя продолжатся. Он же, герой, постоянно выходил за пределы своей роли и жил в мирах всех других персонажей, легко воспринимая быт и улавливая движения души разных людей.
Сугубо реалистичная эта проза была насквозь прошита не совсем ясным для меня подтекстом, скрытой, нематериальной радостью и спокойствием, словно автор констатировал и даже транслировал совершенно очевидный для него закон непрекращающейся жизни. Жизни в стороне от размышлений о деньгах, комфорте, здоровье, болезнях, сексе, политике, войнах, катастрофах, подлости, изменах и разочаровании. Я не был готов к такому ощущению жизни и внутренне спорил с автором…
(Пишу сейчас, разложив блокнот на чемодане, и сквозь пыльные окна вокзала солнце попадает на страницу. Оглядываюсь кругом, а рука сама пишет: «Мушки вьются парами – значит, скоро осень».)
Потом меня как-то позвали выпить с поэтами, и Маринка, симпатичная и вредная, но поэт хороший, ворчала весь вечер, что никак не может привыкнуть к Вовкиным коротким предложениям.
«А что за Вовка-то, что пишет»? – спрашиваю я. «Да ты с ним в одном номере напечатан, повестушка эта странная…» – «Мне нравится». – «Мне, в общем, тоже, но можно же мысль свою как-то развернуто подавать, а не в двух словах: “он сказал”, “она отвернулась”, “они ушли”. “Солнце село, холодно не стало”. Ну что это за проза? Кстати, и рифмы у него неточные и нелогичные». – «Он, что ли, еще и стихи сочиняет?» – «Песни. Группа у него. Собрал солистов со всех оркестров, и метелят кто как может. Сам на гитаре, трубач из филармонии, басист из музтеатра, а барабанщик вообще профессор из консы. Когда они и время-то находят с ним играть?» – «А-а». – «У них как раз сейчас концерт закончился, мимо поедут. Мне нужно ему рукопись вернуть, давал мне почитать, поправить. Могу познакомить, если хочешь». – «Ага!»
Выпили еще немного. Похвалили Маяковского и Мандельштама, поругали Пастернака и Есенина. Потом наоборот. И вот у Маринки зазвонил телефон. «О, едет. Надо выйти». «Так пусть сам зайдет, – говорю я, – ему же надо, не тебе. Тут и познакомишь». – «Легче нам спуститься: он не ходит. В кресле ездит». Я… как бы так сказать помягче… весьма был сильно удивлен.
За рулем приехал Федя, крутой соло-гитарист, но это я потом узнал. Вовка сидел справа. Он оказался обычным парнем. Ну вот обычным. Открыл дверь и сказал что-то типа: «Можно я здесь посижу»? Виновато улыбался и кивал, пока Маринка распекала его за упрощения. Когда я влез знакомиться со словами, что мне интересно, как он пишет, пожал небольшой жесткой ладонью мою руку и предложил: «Заходи тогда в гости, поболтаем».
Я зашел. Стал заходить еще и еще. С первого же раза мне стало легче. Свежее масло потекло в раскаленную голову. Скажу честно, больше болтал я, а он слушал. Я рассказывал истории из своей жизни, он – из своей. Я прямо-таки вещал о себе, я скромно поведал ему о страшных испытаниях, выпавших на мою долю, а он говорил о людях, которые его удивили, обрадовали, восхитили. По неизвестной причине мне часто хотелось заплакать, когда я его слушал, хотя внешне, на первый взгляд, Вовкины истории не были трагедиями и рассказывал он их смешно.
Иногда он показывал мне новую песню, сочиненную накануне, и я поражался. Чему? Сам не пойму. Вот послушайте:
Ну что за вечер!? Все пьют клюквенный морс…Меня калечит то, что они просят выключить Doors!Я напрягаюсь – не сыпьте рану на соль!Я улыбаюсь и достаю свой хромированный кольт!Или:
Дворники убирают снег.Электрики добывают свет.Волшебники уснули до утра.Ты знаешь, и нам с тобой пора…Мне сдается, я понял, отчего все, кто знаком с Володей, почти сразу забывают, что он сидит в инвалидном кресле, а не бежит вместе со всеми в атаку на мир или, наоборот, не занимает от него круговую оборону. Он просто живет со своим особым отношением к этому миру, и все, кто попадает в атмосферу этого отношения, вдруг понимают, что счастливы. Как будто в пятом классе ждешь, ждешь летних каникул, и вот они наступают. Однажды, лет десять назад, мы с ним поехали на выставку картин, а по дороге он меня просит: «Давай девушку одну подхватим по пути»? Подъезжаем, а тут выходит девушка – такая красивая, что я заробел: не ошиблись ли мы адресом? Но нет, не ошиблись, она теперь его жена.
И вот как-то раз он рассказал мне историю, из которой мне уж очень захотелось сделать рассказ. Я долго собирался, примерялся так и эдак и понял, что фантазии поставить себя на место героя мне не хватает. Тогда я снова пришел к Вове в гости, а потом записал наш разговор.
– …Помнишь, ты рассказывал мне? Парень на коляске под дождем… Меня так эта картина зацепила. Как его, Серёга, кажется?
– Лёха. Его звали Лёха. Веселый такой, компанейский парняга. Он мне как-то написал: «Привет! Помнишь?» Я: «Помню, конечно!» А он раз – и замолчал. Потом с другого адреса пишет то же самое: «Привет! Помнишь?» Да помню я, помню, и пишу в ответ: «Так мне что, твою старую страничку удалить»? (Мы улыбаемся.) Он как ни в чем не бывало: «Ай, ерунда, я пароль потерял»…
Много времени прошло с тех пор, как мы последний раз виделись в больнице, в центре этом реабилитационном. И всё, контакты пропали, а тут он снова меня находит. Я так понимаю, что он попивает-то лихо. Ну, если пишет, что сын приходит его контролировать. Видно, проверяют, чтоб не пил. Историю его после того случая, что тебе рассказывал, совсем не знаю… Хочешь чаю?
– Давай!
– …Уж насколько мы циники, ну ты понимаешь, о чем я…
– Конечно.
– Когда в одном месте куча людей с одинаковыми проблемами, тогда никто о них не говорит, не рассказывает, потому что все всё понимают. И тем не менее, глядя вот на это все (он на секунду задумывается), я до сих пор ту сцену не могу забыть. Не в том контексте, что вот человек на коляске и страдает-переживает, а в том, что в ней было… сконцентрировано одиночество, возведенное в высшую степень. Когда чувак едет на коляске под ливнем, под которым он… может не ехать!.. Ему не надо срочно никуда, но оно гонит его из квартиры. И вот ему к станции метро, а потом еще в метро корябаться. А потом электричка… В общем, давай все сначала.
* * *Это был реабилитационный центр в Москве. Эр-Цэ. Не такой, где все заточено под людей на колясках, а просто отделение при клинической больнице, которое называется реабилитацией. Тогда, в конце прошлого века, было еще очень мало мест, где люди в инвалидных креслах могли общаться друг с другом. Своего рода резервация.
Туда брали тех, кто ничем сопутствующим не болеет, например, нет пролежней, чтобы можно было заниматься лечебной физкультурой или проводить процедуры. Но ни от чего не лечили. Все, кто был там не первый раз, понимали, что чуда не случится, что никаких ног.
Если честно, то все становится ясно почти сразу, за год-полтора. Крайне редко бывает прогресс и чувствительность восстанавливается. Чаще нет… А люди все равно верят и обижаются, если кто-то сомневается. Надежда, конечно, живет. Все втайне молятся, все просят. Ходят всякие слухи и сказки типа «Петя встал, Вася тоже». И у меня были надежды, но призрачные, фанатичной уверенности не было. Я приезжал заниматься, с друзьями общаться, а по большей части наблюдать и размышлять.
Вот пройдет, к примеру, твой срок пребывания, и поедешь ты домой. Один. Никто с тобой возиться не хочет, не до тебя. Понятно, время тяжелое, самим бы выжить. Работы нет, интернета такого, как сейчас, тоже. Многие из нас просто сидели без дела. И что придумаешь, то с тобой и будет. Каждый лепил, что мог. Кто-то с друзьями, если друзья есть хорошие. У кого-то, крайне редко, оставалась работа. О, это был большой человек! Ведь он нужен кому-то до такой степени, что за ним приезжают и везут в офис. А ты сидишь дома, и за тобой никто не приедет. Поэтому бывало и уныло… (Мне никогда не передать словами, как он тут усмехнулся.)
Реабилитироваться можно было два раза в год, и туда заезжали целыми компаниями. Люди знакомились, начинали дружить и под конец договаривались встретиться через полгода. Тусовались почти месяц, а потом ждали нового заезда. Готовились к нему. Врачи отказать не могли, если не было причин вроде нарушений дисциплины.
Центр занимал второй этаж огромной больницы, это был длинный коридор с палатами, процедурными кабинетами, ванными комнатами, кладовками, спортзалом и «Байконуром» – туалетом в дальнем конце. Коридор делился на два крыла лифтом, а к лифту со двора через первый этаж вел самодельный деревянный пандус с перилами.
В правом крыле селили новичков. Здесь все было тихо, по режиму. Можно даже сказать, интеллигентно. В десять вечера отбой. А в левом жили ребята, которые в Эр-Цэ уже не по первому заезду. Братва нормальная, опытная, местами прожженная. Новичков туда не отправляли. И вот там-то вечером жизнь только начиналась.
Часов в пять, после ухода врачей, приступали к жарке-варке. Распорядок дня не соблюдался. От еды на пару́ все отвыкли. Если у тебя есть связи и тебе приносят копченую колбасу, огурцы-помидоры, сардельки, ты уже не можешь есть по режиму. А в определенный момент уходят почти все медсестры, и тогда просыпаются монстры.
Контингент подбирался разношерстный, туда попадали разные люди со всей страны – и молодые, и постарше. Это крыло, левое, где «старички», существовало исключительно для общения, ведь все понимали, что шевелиться ничего уже не будет. Там выпивали, и прилично, но если не попадаться врачам и договориться с медсестрой, то и она закрывала глаза. Главное, чтобы не было конфликтов.
Лёха был ветеран левого крыла, парень, как уже сказано, веселый и компанейский. И вся палата у них была спаянная. Поговаривали, что сосед Славка где-то поучаствовал и на точку прилетела мина. Осколок попал в позвоночник. А двух других парней не очень помню. Вот у них четверых сложилась своя компания, они загуливали.
Мы дружили, но в шабашах и сэйшнах я не участвовал. У меня была гитара. Она выручала. Народ, как услышит божественные звуки (улыбается), у дверей толпится. Даже медсестры иногда на минутку останавливались передохнуть и послушать.
А они, Лёха, Славка, нормальные парни, в палате у себя веселятся, наливают-закусывают. Смеются, прямо ржут, друг друга подкалывают. Молодые мы были.
Там же ведь и девчонки на колясках приезжали разные, находились и парни, желающие за ними приударить. Возникали отношения, а где ж еще им возникать, если не здесь? Ходили гулять в парк. Есть у больницы огромный парк, дорожки, клумбы, деревья. Слегка уменьшенная ВДНХ.
Познакомиться просто. Была одна девушка с мамой, ухаживала за ней. Нет, девушка на ногах, конечно, это мама на коляске. И мама была против. Против их с Лёхой отношений. А она, вот не вспомню никак ее имя, может, Надя? Она была такая… среднего роста, стройная. Худенькая, симпатичная, брюнетка со стрижкой. Деловая, о маме заботится, все делает быстро.
Она как-то вышла из маминой палаты, присела в коридоре отдохнуть на диван, он и подкатил. Познакомились. В таких заведениях экспозиция короткая, ведь здесь всё близко и недолго. Вот и у них заискрилось, потом закрутилось-завертелось. Начались отношения, она шла навстречу. У них был ключ от какой-то комнатушки, и отношения… ну, очень личные и очень стремительные. Мама – та просто запрещала, но она ей вопреки все равно встречалась с ним. И они закрывались в этой комнатушке…
Лёха, кстати, понимал, что встать не получится. Разговоры об этом даже не заводились. Он, по-моему, к тому времени был уже разведен. Чаще всего так случается, что когда человек получает травму, то люди расходятся. Жизнь вдруг совсем меняется, и не все могут это выдержать. А новые пары образуются, когда человека принимают уже вот таким…
Этих людей, под энергетиком любви, их видно издалека. От них какие-то лучи исходят, радиация. Глядя на них, ты понимал, что это не просто шутки, что не романчик это больничный, каких много случалось. И она его не дразнила, не шутила. Она, хоть и улыбалась, казалась такой серьезной, внимательной. Приветливой со всеми. А с ним ласковой и нежной.
Народ вокруг любит подкалывать, но по-свойски, без злобы. С одной стороны, целоваться же в палате не будешь, там соседи могут пошутить, мол, не мешайте, дайте отдохнуть и вообще – взлетайте-ка с «Байконура». А с другой – Лёха собирается на свидание, возле умывальника бреется, а Славка ему из своего угла бросает через всю палату дорогущий лосьон после бритья.
…И у Лёхи с ней все выглядело серьезно. По нему было видно, хотя он почти ничего не рассказывал. Однажды только обмолвился задумчиво, что гуляли с ней в парке, искали вдоль дорожки каштаны. Откуда ни возьмись из-за кустов появляется девчушка лет пяти, нарядная такая, в белом платье, с бантом и говорит: «Тут каштанов нет, они там, под деревьями»! И снова исчезла. Поехали дальше, а она бегом догоняет, запыхалась вся, и кладет ему в ладонь каштан. Красивый такой, теплый и гладкий. Только и успел спасибо сказать. Ну чистый ангел!
Мы спрашиваем, желание-то загадал, раз ангела встретил? Конечно, отвечает, сам смотрит сквозь нас, улыбается, как Ромео на балкон. Потом вечером, после свидания, на радостях слегка подвыпил с соседями и в темноте уже пробирался к своей кровати. Хотел потихонечку, никого не разбудить. Там над кроватями балканские рамы, такие железные перекладины, чтобы можно было руками цепляться и перелезать из кресла на постель. Утром нам рассказывает: «Лезу и не могу понять, чего ж так тяжело? Кое-как залез и наконец понимаю, что ноги-то от коляски не отцепил, они так и остались ремнем притянуты. Вместе с коляской и взгромоздился на койку, только потом сообразил»! Вот до чего не в себе был.