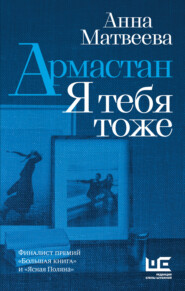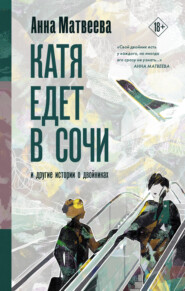По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Юбилейный выпуск журнала Октябрь
Год написания книги
2020
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
* * *
Ласточка в голове,
ласточка в рукаве,
словно рука в траве,
в угольной синеве
дерево осязанья
ищет себя в листве
до потери сознанья:
волю, простор и путь –
вырваться, изогнуться,
горькую смерть сглотнуть,
выпорхнуть как-нибудь –
и оглянуться…
«Всё улетаешь – во сне тяготенья нет…»
Памяти Гр. Д.
Всё улетаешь – во сне тяготенья нет,
боги вжимают в шарик любой предмет:
вот пузырек кислорода и водорода –
каждой кровью божья болит свобода.
Солнце зароют в море – взойдет луна.
Море зароют в солнце – взойдет волна.
Землю зароют в небо – увидишь тело,
чтобы душа пустоты из очей летела
прямо на свет, нестерпимый от света свет –
долгий, темнее которого в мире нет.
* * *
Бог виднее в грозу из подвала,
словно смерть сквозь слезу целовала
осторожно и мало – как мало –
целый мир и глаза на лету.
Застекли стрекозой темноту –
и услышишь монетку во рту:
прозвенит от резца до резца,
от когтей до орла, до лица
за решеткой державной свободы,
за глазницами черными звезд,
где встают перезревшие воды
в синеоких цепях непогоды
во весь рост.
* * *
Плачет в окне кулик,
в озере ходит Будда
с сетью. Живой мужик.
Тень твоя – проводник
бедной души отсюда –
в эхо, где умер крик,
где, прикусив язык,
чудо живет без чуда.
Тело твое ушло,
небо, как смерть, немного
тронув – веслом весло, –
выплеснув на стекло
очи бога.
Тимур ВАЛИТОВ
Бессмертие Ивана Ильича
рассказ
Ответ пришел в воскресенье вечером, Иван Ильич нашел в сетевом облаке принтер и распечатал красный шестигранный ярлычок.
– Набери мне Просю, – крикнул он в айфон.
Айфон в ответ слегка ударил его током. «Ведь хотел починить, – подумал Иван Ильич, – а теперь вот и незачем».
И через секунду в воздухе задрожало бледное лицо.
– Прося, – сказал Иван Ильич жене, – давай домой. Будем наливку пить.
– Вызвали? – спросило лицо.
Иван Ильич улыбнулся:
– Дома узнаешь.
Лицо улыбнулось тоже – и тотчас пропало. Иван Ильич подождал, пока ярлычок в лотке принтера остынет, потом повертел его в пальцах и отправил в нагрудный карман. Карман оттянулся, ярлычок темнел сквозь хлопковую ткань.
«Вот и славно», – сказал себе Иван Ильич и пошел в кухню, составляя в уме закуску: сморчки по-селянски, перцы с творогом, паштеты, копченый омуль – и вдруг: «Странно как, ей-богу, странно думать об омуле, когда такое», но других мыслей не было, и Иван Ильич продолжил об омуле.
Прасковья Федоровна пришла через полчаса. Иван Ильич успел распорядиться насчет стола и теперь, сидя у лампы, держал на ладони ярлычок – точно взвешивал.
– Красный? – спросила Прасковья Федоровна, хотя видела – и даже знала заранее, – что красный.
Потом сели, съели омуля и сморчков, выпили наливки. Прасковья Федоровна хотела сказать соответственно случаю, но, что говорить и как, не знала, только смотрела на ярлычок, помещенный Иваном Ильичом на самый верх этажерки с яблоками.
«Вот ведь и красный в придачу, – подумала она, – а я красного сродясь не любила».
Вслух же сказала:
– Ну, Ванюша, какого дня вызов-то?