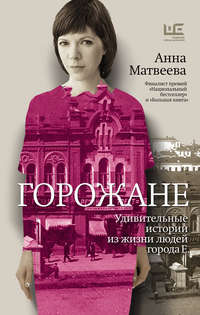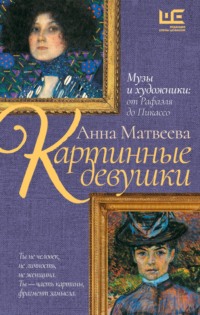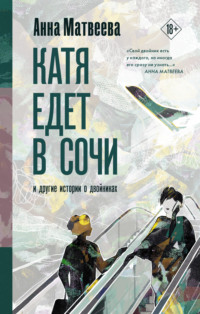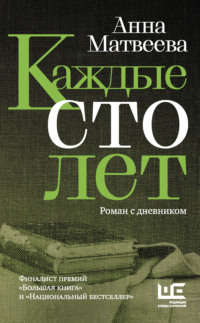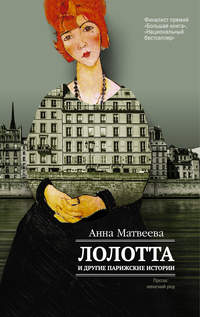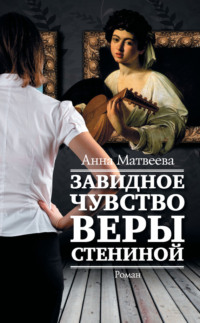Юбилейный выпуск журнала Октябрь
Анна стала скупать детские вещи и захламлять ими дом. Секса у нас не было, потому что ее психолог запретил. По вечерам она сидела в обнимку с кошкой и смотрела комедийные сериалы. Засыпала с кошкой в нашей кровати – я переселился на диван в гостиной.
Я старался возвращаться с работы все позже и позже, разговаривать с ней было не о чем.
Когда меня срочно вызвали в командировку, она потеряла ребенка. Врачи сказали, что его можно было спасти, если бы она обратилась к ним на несколько часов раньше, но я им не верю.
Случилось так, что ночью кошка пришла к ней спать и легла не привычно рядом, а на лицо Ани. Та стала задыхаться во сне, и от испуга у нее начались внутренние сокращения. По словам врачей, если бы я был рядом, то помог бы Ане прийти в себя.
Она позвонила в скорую, та приехала к обеду, в итоге ей дали наркоз и выскоблили. Все произошло очень быстро. Когда Аня вернулась домой, кошка пропала. Аня собрала все детские вещи и отнесла в приют. Забросила работу и подолгу сидела на кухне, глядя во двор, на играющих детей.
Однажды я вернулся с работы и не нашел и ее. Осталось только ведро, которое теперь перешло ко мне. – Он помолчал минуту. – После я встретил ее однажды, через много лет, но она совершенно не изменилась. В павильоне игр с дополненной реальностью проходила презентация, и друзья притащили меня за компанию. Аня стала прототипом одной героини. Она даже не повернула голову, хотя слышала мой голос. – Казалось, он хотел что-то добавить, но в последний момент передумал, и речь его запнулась.
– Мне часто снятся кошмары, – продолжил он, собравшись. – Я принимал разные препараты, но проблему со сном они не решают. Психолог посоветовал сходить в ваше заведение, хотя в Бога я не верю. Но мне начинает казаться, что есть кто-то выше нас, кто решает, быть нам счастливыми или нет. Так ведь? Иначе зачем эти голограммы, свечи и прочая атрибутика?
Собеседник взглянул на него безучастно, вздохнул и промолчал. Казалось, он вообще не слушал монолог, а только присутствовал здесь как тело. Душой он находился где-то очень далеко.
– Почему вы молчите? – не понял Илья. – Я тут душу буквально перед вами излил, о самом наболевшем рассказал, а вы просто молчите. Человек ты или кукла?
– Слушай, ты выбрал базовый пакет. Он включает только одну опцию – выслушать. Я это сделал. На что ты еще рассчитывал? – Человек устало заглянул Илье в глаза. Он напоминал сотрудников круглосуточных кол-центров, которым постоянно приходится выслушивать чужие жалобы.
– Но с таким же успехом я мог бы рассказать все роботу!
– Да, это было бы дешевле, и он наверняка посочувствовал бы тебе и даже чем-то помог, если бы программа позволяла. Но ты выбрал опцию «разговор с человеком». Она дороже, но ты ведь понимаешь, людей в наше время осталось мало и ценность разговора с человеком – самая высокая.
– Но чем ты тогда отличаешься от робота? Ты даже не смотрел на меня, когда я с тобой разговаривал!
– Это все, что входит в базовую опцию, извини. Для диалога следовало брать пакет «исповедь» либо проходить курс «очищение души» со священником. У нас же есть F.A.Q. Ты ознакомился с ними перед выбором?
– Это нечестно! – возмутился Илья. – Я обращусь в региональное отделение прав потребителей! Сейчас же вызывай менеджера по продажам!
– Господь Бог – мой менеджер по продажам, – произнес устало человек и вышел в невидимую дверь, где воспарил на прозрачном лифте вверх, отрешившись наконец от всего земного.
Геннадий ВДОВИН
Памяти «Невечерней», или О хоровом пении[16]
соло
Светлой памяти деда моего –
Сергея Никифоровича Вдовина
Ай, да невечерняя, невечерняя ли нэ заряАй, заря, ой, да зорька,Зорька виткак спотухала, спотухала,Зорька виткак спотухала, спотухала,Спотухала эй ли нэ заря.Старинная таборная песняЧто за горе? Плюнь, да пей!Ты завей его, завейВеревочкой горе!Топи тоску в море!Вот проходка по баскамС удалью небрежной,А за нею – звон и гамБуйный и мятежный.Чибиряк, чибиряк, чибиряшечка,С голубыми ты глазами, моя душечка!Аполлон ГригорьевЦыган был вор, цыган был врун,Но тем милей вдвойне,Он трогал семь певучих струнИ улыбался мне,И говорил: «Учись, сынок,Учи цыганский счет –Семь дней в неделе создал Бог,Семь струн в гитаре – черт,И он ведется неспростаТот хитрый счет, пойми,Ведь даже радуга, и та,Из тех же из семиЦветов…»Александр ГаличДед мой цыганский, Сергей Никифорович Вдовин, отвоевавший все войны и отсидевший все лагеря, петь, как и положено цыгану, умел.
Умел.
Хорошо умел.
Но не любил уметь.
Не любил и не спешил.
Никогда не солировал и не тенорил.
Никуда не торопился.
Ничуть первым не запевал.
Впрочем, в доброй мужской компании после пятой рюмки низким, глубоким, чуть хрипавым баритоном всегда было подтягивал…
И «Эх, дороги!..»
И «…Прощай, любимый город…»
И «Давай закурим…»
И «Прощание славянки»…
И «…Растаял в далеком тумане Рыбачий…»
И «По тундре…»
И «…Любимый город в-синий-дым-китая…»
…
Через четверть-другую часа, рюмке на восьмой-девятой слышалось вдруг, что точнее всех, и глубже всех, и абсолютно в ноту попадая, поет он.
Поет деликатно, ведя нежно неумех, спасая терпеливо безголосых, вытаскивая грубо лажающих…
Поет, не солируя, не подавляя, не унижая…
Поет, зовя и приглашая, разделяя, не властвуя…
Поет, соучаствуя и сочувствуя…
Поет скромно.
Поет по фронтовому и по лагерному братству…
Поет, показывая глазами, кулаками и желваками моему отцу, навсегда тенору, красавцу, герою и солисту, что здесь-то ему-то и промолчать.
Батя, бронзовея цыганским стоическим профилем светлой памяти древнегреческих рымлянцев, тихо, безнадежно и бледно затыкался, уставляясь в не питую пока рюмку.
…
Итог собрания: «А хорошо, мужики, посидели!» – дед считал наградой.
Этим-то результатом он был всегда доволен, хитро прихлебывая остатнее, разливая посошки и подавая, раздавая, выдавая товарищам ватники, костыли, шинели, кепки, плащи, палки и пальто…
…
Вовсе иначе дед пел мне колыбельные.
«По тундре…» Спи, б\дь. – «…по железной дороге…» Спи.
«Что за песня в степи молдаванской! Как дрожит под ногами земля!» Спи, б\дь.
«Уна маттина ми сон свеглято…» Спи, б\дь. «О белла, чао…».
«Шел по улице сиротка, посинел и весь дрожал…». Спи, б\дь. «Шла по улице старушка, пожалела сироту…» Спи.
«Любо, братцы, любо…» Спи, б\дь. «Атаман узнает, кого не хватает…» Спи, спи уже!
…
Ежели я сразу не засыпал, а от этих щедрот я сразу никак не задремывал, то просил «Невечернюю».
Пел ее дед неохотно, начиная как бы из-под спуда, глотая слоги не помнимой никем речи стальными зубами.
Ай, да невечерняя, невечерняя ли нэ заря……
– А пошто тебе, дурачок?..
– Понять…
– Что понять?
– Как сделано…
– Дурак ты, внук. Красота не развинчивается…
– Дед! До конца-то, конечно, не разобрать, но что-то слышится соуместное.
– Да… Хорошо – «соуместное». Сам придумал?
…
– Дед, а «Невечерняя» – это про что?
– Зачем тебе это, мальчик?.. В паспорте у тебя все равно будет написано «русский»…
– Поглядим.
– Дурак… Ты, конечно, можешь записать в паспорте «цыган» и огрести…
Но…
Ты не можешь выучить язык, которого, почитай, нет, и обратиться к преданию, которого тоже нет, или к отсутствующему писанию, которого тоже не существует…
Разве что, Бог дай, поступишь в Московский императорский университет и выучишь санскрит. А там, Господь милостив, чего-то и поймешь… И кому-то что-то докажешь…
…
Начитанный Генька самокритично сообщал, что он никак не Ломоносов и рыбного обоза из-под Архангельска, поди, уж не предвидится, а Московский императорский университет нынче МГУ.
Дед хохотал, ослепительно светя под моим косым ночником железными зубами, подаренными ему партией и правительством за «Красную звезду», за «Отечественной Войны», и «За отвагу», и пр.
Смеялся и толковал, что милостив Бог и, может статься, сопроводишь ты еще грузовик с «Килькой нерядовой в томате» с Таганского аль Перовского рынка до университетской столовки на Ленинских горах.
…
– Так про что ж «Невечерняя»?
…
– А, дурак ты, внук…
И отец твой дурак…
И я мудила…
А я всегда ее себе пел при прижиме.
– Помогла?
– А то!..
– Где пел?
– В Испании под обстрелом без воды, в предвариловке в Таганке по ребрам, на пересылке по яйцам, под Абаканом по почкам, в окопе под Красногорском под остатний чифирь, в госпитале берлинском со сломанными ногами без наркоза под спирт, в больнице в Москве, когда Настя, бабка твоя, помирала, без ничего…
…
– Дед, так про что ж «Невечерняя»?
– Это просто обрусённая коллективная молитва, которую от нужды сделали шлягером для сытых, но от этого она не перестала быть сакральным текстом, молитвой, заговóром.
Вспомнив свой залапанный и залистанный БСЭС, начитанный на шестом году жизни Генька, знавший уже слова «стимул», «парадокс» и даже «меридиан», с тоской спрашивал:
– Молитва кого? А «сакральное» – это что?
– Представь себе одиноких, голодных, обреченных, замерзших, никому не нужных людей, вышедших холодной ночью третьего века до нашей эры из не то Северного, не то Северо-Западного Индостана. Людей, не умеющих воевать, убивать, сеять, молоть, грабить, пахать, полоть, огородничать, скирдовать, но умеющих ковать, гончарить, плотничать, уже кое-как токарить, уже что-нибудь, как бы, слесарить, уже как-нито фрезеровать, лечить людей, петь, воровать, целить животных, гадать, исчислять звезды, стекло варить…
А «сакральное» – это просто «святое». Понимаешь?
– А почему они бежали?
– Они уже знали, что Бог один.
– И?
– Монотеистам невесело было тогда в Индостане среди вражных…
…
Подрастешь, и будут тебя сначала учителя, а потом прочие интеллигентные люди доставать Чеховым. Антоном нашим, б\дь, Палычем. Мучить его пьесами и прочими «Скучными историями»…
А ты прочитай тогда один рассказ – «Студент».
Почувствуй озноб…
Холод осознай…
Плечами от стыли передерни…
И пойми стыд предраскаяния. И услышь, как холодно и голодно выбирать. Как бездомно и стыло отказываться, веруя, и, веря, едва не продавши, искать спасения, обреченно ожидая заполошного петуха…
Вопрос-то от ихней тройки к Петру был не так об Мессии, как о подлинности спасения.
Напрягая закипающий мозг, Генька, вспоминая свой всеспасительный БСЭС и догадываясь о смысле приставки, ставит вопрос ребром:
– Монотеист – это однобожник, что ль?
– Именно, – отвечает уставший дед. – Спи, б\дь…
«Я помню тот Ванинский порт… И гул пароходов угрюмых». Спи…
…
И когда тебе, мужик, станет совсем худо-поперек, зануди, замычи, запой себе-в-себе-прó-себя «Невечернюю». Спасет.
…
Спасибо, дед.
Спасало.
Спасает.
Бог даст, еще спасет.
…Ай, да вы поденьте,Вы поденьте, манге ей, братцы,Ай, братцы, ай, да тройку,тройку, манге, серопегих,Тройку, манге, серопегих,Серопегих, серопегих, манге, лошадей!Ай, да невечерняя…Дмитрий БАК
Поэты русские
«такие строчки-зарисовочки…»
Трамвай, как детский мяч прекрасный,Зелено-синий, желто-красный…Б. Слуцкийтакие строчки-зарисовочкии рифмы на местах, как стража, –стихов советское узорочье,простая выставка-пропажа:искусство тёртое, не мёртвое,полуживое, а порою –надрывное и козьей мордоюоб стол за ропот похоронныйи за отсутствие тревожногоброска в космические дали;под насыпью, во рву стреноженном,я узнаю твои скрижали,поэт, предлогами натруженныйи междометиями полный,твои рылеевы-бестужевы,милорды-блюхеры, как волнына сонный брег летели вынестиобломки запоздалых трелейи жёлто-синих дней без примеси;в зелёных плакали и пеликрасивые младые слуцкиеи левитанские, как ветер:стоят в строю поэты русскиенавытяжку, одни на свете* * *ну, отвечу в склад и в лад:пусть вокруг подземный ад,пусть, верней, надмирный рай –иглы гулкие сбирай!эма-мандель, штамм житья –бостон-сковское дитя:где ты, где ты, соловей,соло, полное кровей,смешанных в один редут –опоздавших подождутспутанные небеса:облака, луга, леса;до тебя, как до луны:пятна тёмные видныс оборотной стороны,сны известием пьяны;молча встретим новый свет,преступивши, где нас нет;новый горний наш полётне задушит, не умрёт«помнишь, как у замнаркома…»
Летних сумерек истомаУ рояля на крыле.На квартире замнаркомаВечеринка в полумгле.А. Межировпомнишь, как у замнаркома,что у Межирова, невозвратился ночью к дому,где в последнем светлом сневзором белым – брат на братаи сестра к сестренке в бе –лой и выглаженной кратноблузке – льнули, но припеваты-баты выпал в темя,выпаленный с полуглаз:так слова тогда летели,Совинформбюро – не ТАСС;словно будет вдоволь хлебаи за океан ничутьне повеет солью с небальда хоть каплю зачерпнуть«Нельзя беречься, говорит Давид…»
Давай поедем в город,Где мы с тобой бывали.Д. СамойловНельзя беречься, говорит Давид(Самойлов) – Голиафу, накануненокаута, когда он, боевит,и умертвит его, и переплюнетразмахом сердца; вылетит пращой –прощён и брошен, обезглавлен этот,покинутый в несчастье и ещёпустой отвагой посрамлённый методпрощения, прощания; и пустьбледнеет день и кажется, что верный,неровный путь был выбран – прочь от муз, –кислотный ужас или амфотерный;беречься от покинутых в кровизагугленных и брошенных событий…но всё равно – ту би ор нот ту би –один, два, три, четвёртому не быти.* * *Чужая боль, а ты не слышишь,И врозь кого-то развелоНа площади, где грезят крышиЛистве, растрепанной назло;И вроде всё навек понятно,Но вот до хрипоты готовКричать, что не вернуть обратно,Поэт Владимир Соколов;И мне неведомы причины –Лицом к лицу не увидать…Должно быть, ножик перочинныйИсчез из виду без следа,И потому – нет, не перо, нет –Твой карандаш остался немИ между строк, как на перроне,Звук замирает – в сторонеОт бодрых и походных песен,От строек дальних, светлых тем –Такую боль везде развесилПо строфам ты, что полетелДо срока белый тополиныйПух, отцвела в саду сиреньЕще до майских журавлиныхДней, а зима не в ноябре,В июне наступила споро,Задолго до смертельных уз,Когда поэт с немым укоромМне завещал немой союзС его покинутыми днями,И с ним, покинутым вдвойне, –И той, с кем счастлив был вначале,И мной, глухим, немым, как снег…Кирилл КОБРИН
Картинки, буковки, города
из дневника 2018–2019
ПредисловиеЯ веду дневник уже почти тридцать шесть лет, чем ужасно горжусь, пусть и веду неаккуратно, с провалами иногда в год-два. Главное, что он есть, всегда под боком, ждет, когда я справлюсь с ленью, возьму ручку и напишу что-нибудь. Да-да, ручку, я веду рукописный дневник; когда очередная тетрадочка кончается, складирую ее к прочим; по их коллекции можно изучать историю советской, российской, европейской, китайской писчебумажной промышленности примерно с конца семидесятых по настоящее время.
Дневник я веду для себя, оттого и бумага с ручкой. Дисциплина вдвойне – фиксировать (это раз), фиксировать от руки, чтобы не потерять навык бытовой каллиграфии (это два). Я никогда не перечитываю записанного за все эти годы; как знать, быть может, и не перечитаю никогда. То есть дневники так и сгинут после моей смерти, никем не открытые. Собственно, таков мой замысел. Хотя, конечно, заветные тетрадочки я не прячу в сейф; любой из окружающих может тайком открыть и прочесть пару страниц. Полагаюсь на прочность моральных устоев друзей и близких, но если кто-то и дал слабину, то ничего интересного в этих тетрадках не нашел. В юношеском дневнике, как положено, шум и ярость по поводу несовершенства мира, мечты понятного возрастного свойства и проч. Позже – уже отчеты о прочитанном, прослушанном, просмотренном; позже к ним прибавились новогодние резолюции, а также сожаления по поводу ушедших из жизни друзей и знакомых. Иногда что-то про деньги и погоду. Недавно заметил, что внутренних рецензий стало меньше, фактически они исчезли.
Последнее обстоятельство и побудило меня начать в 2018 году еще один дневник. Электронный – и не о себе и своих делах, а о мире. Но не такой, что вели братья Гонкуры, Кузмин или Лидия Гинзбург. И не бумажный, а айпэдный. Со вторым обстоятельством все ясно: я везде таскаю с собой это великое изобретение компании Apple. В него вношу всякие заметки о наблюдаемом. Вот и подумал: не организовать ли их хронологически? Почему нет? Теперь что касается «о чем». Меня уже давно занимает такая нехитрая мысль: мир, в котором мы живем, есть не театр, как утверждал Шекспир, а арт-объект, причем объект именно современного искусства, contemporary art. Если внести немного теологии, то он еще и объект концептуального искусства: мы придумали Бога, который, подобно «персонажному автору» московских концептуалистов, управляет миром, предварительно смастерив его. В моих словах никакого богохульства: ведь если Бог есть, то он уж точно играет в совсем иную игру, не так ли?
В общем, если Ролан Барт в «Мифологиях» осветил ровным светом галльского рацио семиотику повседневной жизни, то я, будучи гораздо скромнее (и не будучи галлом, конечно), просто думаю обо всем, что вижу, слышу, читаю, ощущаю, как о феномене – уж простите за высокий слог, тут другого слова не подобрать – contemporary art. Тут не старая-добрая «эстетизация мира», отнюдь, скорее наоборот, деэстетизация искусства. Еще проще: я пытаюсь увидеть жизнь как хронологически организованное пространство, территорию, причем территорию искусства, арт-территорию, по которой – переиначим известное высказывание одного обер-прокурора Синода – бродит любопытствующий человек. Ниже – заметки этого бродяги об увиденном и подуманном.
1 июня 2018-го, Рига, Гризинькалнс
Вернулся из Москвы, раскладываю вещи, из сумки выпала карта, я ее прихватил в отеле. Ничего особенного, карта топографическая, показывает центр, такие обычно лежат на рецепции; но тут смешно, на обложке почти сплошь иероглифы: ведь гостиница называется «Пекин», сталинская высотка рядом с Маяковским. Так уж вышло, не специально, мои китайские приключения ни при чем, жилье заказывала приглашающая сторона. Ну и я об том не пожалел: кажется, в подобных местах никогда не жил. Всякие отели видел в Москве: и как бы новые («Новотель», к примеру, где за завтраком почему-то больше всего средней руки чиновников чичиковского возраста, путешествующих с семейством), и отчасти старые (помню около Покровки жил в бывшем борделе; профиль заведения поменяли, а вот декор – нет, ходил по вытертым плюшевым коридорам и непонятно отчего вспоминал Куприна; К. Б., которого тоже там поселили, не выдержал и сбежал ночевать к здешнему знакомому, тоже мне, а ведь гусар типа), и какие-то промежуточные. Но «Пекин» – ах! Ампир эпохи широченных штанин товарища Лю Шаоци и других китайских товарищей, приехавших навестить мудрого товарища Сталина. Пока рецепционистка искала в компьютере бронь, а портье из бывших ментов устремил сквозь меня безучастный серый взгляд, будучи равно готов и чемодан мой подхватить, буде у меня таковой имелся, и наряд вызвать, буде буянить вздумаю, я бормотал под нос незабвенное:
Москва – Пекин.Москва – Пекин.Идут, идут вперед народыЗа светлый труд, за прочный мирПод знаменем свободы.Меня окружало именно оно, москвапекинское: имперский grandeur, состряпанный из ДСП благородной бордовой раскраски, пластиковые цветы на входе в ресторан, собственно, целая из них ярко-кислотная стена с загадочной надписью BAR 2545, зловещий шик средней руки дагестанских гангстеров; утром здесь шведский стол, а ночью неторопливый оттяг совсем не скандинавских, плотно стриженных затылков, в холле (я потом выяснил – на каждом этаже) – экраны, на экранах – хроника тех возвышенных лет, когда товарищ Мао и товарищ Лю посещали краснознаменную семихолмовую, а на пересечении улицы Горького и Большой Садовой возводили этот – тоже сильно возвышенный – символ советско-китайской дружбы. «Слышен на Волге голос Янцзы, / Видят китайцы сиянье Кремля». Только уже на следующий день я обратил внимание, что по-английски отель называется по-старому, Peking, а не новомодно Beijing – все четко, историзм торжествует. Да, а коридоры! Длинные коридоры, устланные красной ковровой дорожкой с якобы мандаринским орнаментом, желтые стены над невысокими деревянными панелями под цвет лакировки времен династии Мин, на желтых стенах – картины, темноватые пейзажи то ли под сталинских певцов среднерусской природы, копирующих передвижников, то ли кисти сами́х сталинских певцов березок, песчаных откосов над неторопливыми реками и шишкинских чащ. Не разберешь. К тому же в коридоре темновато, даже имя автора произведения сложно прочесть. Темные аллеи позднего сталинизма; наверное, сюда водили своих секретарш ширококостные замминистры – не похоти ради, так, снять напряжение, ведь на краю всё, на краю квартира, дача, «Победа», домработница – всё; сто́ит неловкое словечко сказать, или расклад сменится в известно каких кабинетах – и конец, и вот ты уже не по коридорам гостиницы «Пекин» ведешь полногрудую Ларису Григорьевну, а это тебя ведут, тащат, потного и измочаленного, по коридору Лубянки, в камеру, после чего понятно что. Пекинская разновидность данного сюжета имеет некоторые собственные – национальные – черты, но, в сущности, всё одно. К примеру, тот самый товарищ Лю Шаоци, что в широченных брюках прогуливался по Москве в 1952-м, умер, согласно официальным данным, в тюрьме в 1969-м, затравленный хунвейбинами, битый и оплеванный ими десятки раз. И морали тут не обнаружить. Никакой этики, сплошная эстетика.
Заглянул в гугл, оказывается, «Пекин» запустили уже после смерти усатого, при Хрущеве, когда дружба с Китаем потихоньку охлаждалась, строили слишком долго, но переименовывать гостиницу не стали, надеясь, видимо, что Мао, качнувшись влево, качнется вправо. Но насчет коридоров Лубянки мне привиделось не зря, читаю: «Первоначально здание, заложенное в 1939 году на пересечении Садового кольца и планируемой в соответствии с Генпланом 1935 года Ново-Тверской магистрали, предназначалось для размещения Главного управления лагерей НКВД СССР и ведомственной гостиницы при нем. Проект выполнил архитектор Дмитрий Чечулин, занимавшийся с конца 1930-х годов проектированием всего ансамбля площади Маяковского, высотной доминантой которой должно было стать здание НКВД». Вот уж спасибо, поселили, как кур во щи попал. Принюхиваюсь к одежде, вынутой из чемодана, – не въелся ли энкэвэдэшный запашок.
И еще забавно на этой карте, что я утащил из «Пекина», бодрое приветствие, практически слоган: «Нихао, Москва!» Си-си вам с кисточкой.
Но это все так, лирика. А эпика – она вокруг, Третий Рим, засевший за двумя линиями обороны: Бульварным и Садовым кольцами. Из «Пекина» по этим линиям хорошо гулять, что я и делал, поглядывая по сторонам, прикидывая, каково это все стало и к чему и что жизнь вокруг меня значит – исторически, что ли, или даже в смысле есть ли эта жизнь уже готовый арт или пока преобладает неокончательность? Иными словами, как выглядит сытый восточноевропейский авторитаризм начала XXI века? Обзавелся ли он «большим стилем»?
Повертев в голове этот вопрос, я оставил его на потом. Меж тем это уже был Страстной, а что там делать, как не осматривать памятники? Первым – понятное дело, почти напротив редакции «Нового мира» – мне встретился Твардовский.
Твардовский, как и положено, страдает. Ну не страдает, ок, он переживает. Голова его опущена. Руки – в карманах плаща, причем левая несколько отведена назад, открывая множество слоев одежды, покрывающей главреда «Нового мира». На Твардовском надето: плащ (или нетолстое пальто), брюки и пиджак, под пиджаком – жилетка, под жилеткой – рубашка с галстуком. Думаю, под рубашкой еще и майка, так тогда носили. Получается пять слоев. И все это – не считая невидимой майки – в складках. Складки у скульпторов В. А. и Д. В. Суровцевых получились знатные – тяжкие, основательные, как честная совписовская проза про жизнь народа. Да, мне Твардовского на этом памятнике жалко: ну за что ему такое наказание после смерти, этот бронзовый кошмар мужского портного старых времен; Твардовский все же другой был человек, другой. И «Теркин» без складок – ни единой. Но тут уж ничего не поделаешь. От словосочетания «“Новый мир” 1960-х» так становится реалистично и так тягостно, что сам невольно складками покрываешься. Это такой образ оттепели и раннего брежневизма у столичной гуманитарной и.: по праву руку закручинившийся о народной судьбинушке Твардовский, по леву – резвится бодрый мажор Аксенов. Нет, не В. А. и Д. В. Суровцевы памятник ставили, вся московская интеллигенция вымечтала эту волнуемую ветром истории бронзу.
А чуть дальше сидит Рахманинов; он, наоборот, такой сноб и пижон, нога на ногу, тонкий, ар-декошный, заграничный. Тоже же московской интеллигенции мыслительный продукт, мол, мы тут страдаем неразрешимыми моральными вопросами, как Твардовский, а тем, кому посчастливилось в свое время улизнуть, им что, они там живут и ни в чем себе не отказывают. Но есть в этом памятнике и хитрость: не намекает ли он, что тщательно сконструированный, сладкозвучно-ретроградный музыкальный романтизм Рахманинова – он ведь и есть ар-деко, звуковой дизайн для богатея, мечтающего о красоте и культуре, что-то типа торшеров Тиффани?