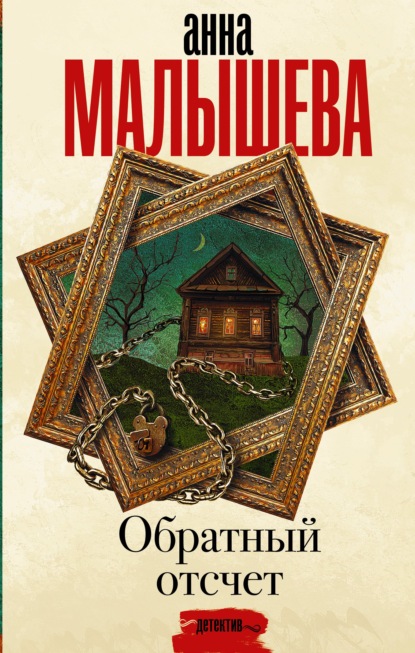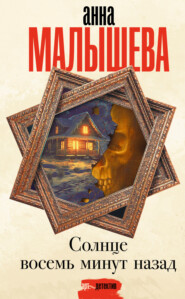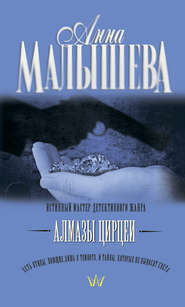По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Обратный отсчет
Автор
Год написания книги
2021
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Какая чепуха, – устало бросила она, разбирая на ночь постель. – Ирма всегда меня поддерживала в трудную минуту.
– А я, значит, нет?
Она махнула рукой и погасила свет. Лежа в темноте с открытыми глазами, женщина попыталась вспомнить лицо Люды, спокойный взгляд ее прозрачных голубых глаз, ее неяркую, но приятную улыбку… И обнаружила, что не может этого сделать. Вместо лица являлось размытое серое пятно. Сейчас она не смогла бы даже описать внешность девушки – та превратилась в тень, в туманный силуэт.
– Что такое? – сонно спросил муж. – Ты так дрожишь – вся кровать трясется. Прими успокоительное.
Татьяна приняла, но таблетки не помогли. И напрасно она пыталась уверить себя, что гадание – ложь, а ее фантазии вызваны взвинченными нервами. Сон к ней не шел, а дурные мысли не уходили. Охотнее всего она сейчас прижала бы к себе сына и погоревала вместе с ним – глядишь, и ей, и ему стало бы легче. Но он был далеко.
* * *
Костер горел низко и уютно, угли на краю кострища то рдели, то подергивались сизым пеплом, который улетал в черное небо вместе с искрами. Пламя неярко освещало лица двух людей, сидевших, прижавшись друг к другу, на границе света и тьмы. Женщина подтянула колени к подбородку, обхватила их руками и переплела пальцы. Ее глаза неподвижно смотрели в самую сердцевину огня, туда, где рождались и тут же гибли золотые и оранжевые призраки. Мужчина держал наполовину пустой стакан с вином и изредка к нему прикладывался. Он то и дело поглядывал на свою спутницу, но та как будто ничего не замечала, целиком уйдя в созерцание.
– Тебе все еще грустно? – спросил он наконец. Голос прозвучал хрипло, Дима откашлялся. Странно – теперь он почти робел перед нею. Его терзало смутное чувство вины, хотя Марфа пошла на сближение сама, можно сказать – спровоцировала его.
Женщина качнула головой, опустила веки.
– Пойдем в дом? Ляжем?
Она снова сделала отрицательный жест.
– Ты сердишься на меня? – уже умоляюще спросил Дима. – Жалеешь?
– Нет. Мне хорошо.
– Правда? – обрадовался он и обнял ее. – И мне, знаешь, тоже ужасно хорошо! Я подумал… Это, конечно, не очень красиво, зато правда… Что все было бы просто чудесно, если бы не Люда. Понимаешь? Ты и я, это место… Оно уже не кажется таким унылым. Если не думать о ней, то можно сказать, что я счастлив.
– Ты все-таки скажешь ей правду, если она вернется? – Марфа положила ему на плечо тяжелеющую, сонную голову. – Она тебе этого не простит. Она не из тех, кто прощает ошибки.
– Ты не ошибка!
Марфа прижалась к нему еще теснее и, чуть вздрогнув, шепнула, что тоже всю жизнь ошибается. И в людях, и в самой себе.
– Я ошибаюсь – следовательно, существую. – Она тихонько поцеловала его в шею. – Не хочешь провести работу над ошибками? Только в доме – меня уже кто-то укусил.
И если бы мать Димы узнала о том, как провел ночь ее сын, она была бы поражена этим куда больше, чем загадочными прорицаниями потрепанных карт Ленорман.
Даше скучно и не по себе – у нее все валится из рук. Сегодня, как всегда, она встала с солнцем, умылась, оделась с помощью горничной девки и села было вышивать алтарный покров для церкви Спаса на Ключиках. Матушка обещалась вышить его давно, по обету, да дела не пускали, вот Даша и помогает по мере сил. Обет давался из-за нее же, когда полгода назад она опасно захворала. Чудотворная икона помогла, батюшка щедро пожертвовал на церковь, а матушка села было вышивать, но у нее пошло медленно. Казначейша Фуникова-Курцова живет не как прочие богатые хозяйки – запершись в терему. Она везде звана и бывает, чаще ест в гостях, чем дома. Вот и вчера…
Даша вздыхает и роняет на пол иголку с ниткой. Поднимает, зевает и крестит рот. Работа у нее не спорится, она задумчиво глядит вдаль, забыв о натянутом на раму парчовом полотне, а когда берет цветные бисеринки из деревянных чашек, составленных рядом на скамье, то путает цвета. Плащ Богородицы велено шить синим, а она по ошибке взяла желтый бисер, так что нянька, распарывая ее работу, сердито морщит восковой лоб: «Иудин цвет!» Но девушка не слушает няньку. На душе у нее смутно, она боится чего-то, а чего – толком не знает.
В большом и богатом доме Фуниковых неспокойно. Батюшку Даша не видала уже дня три – он почти не бывает дома, ему даже одежду переменить посылали со слугой в царский дворец. Матушка оттого ходит тревожная, невеселая – она всегда такая, когда батюшка во дворце. Вчера звали ее на пир – гуляли у Залыгиных, богатых купцов, с которыми у батюшки какие-то дела. Она сперва отказалась было, сославшись на то, что не может дом пустым оставить, но ее так упрашивали, что поехала. Вернулась под утро, да не на своих ногах – принесли пьяную. Даша видела это, выскочив на галерейку, где обыкновенно встречала матушку. Она замерла, сдвинув гладкие русые брови, глядя, как слуги проносят мимо нее полное тело матушки, почти неразличимое под парчовыми одеждами и мехами. Та громко, отрывисто храпела, румяна размазались по щекам, белила и сурьма растеклись – на пиру, видно, было жарко. Ее оплывшее лицо казалось покрытым кровью и синяками. На галерейке резко запахло чесноком и романеей – французским вином, до которого матушка была большая охотница. Даша молча отступила в свою светлицу и прилегла на постель, но уснуть ей так и не удалось. Матушка так пьяна – отчего? Никогда ее не приносили, никогда еще казначейша Фуникова не равняла себя с соседками-выпивохами, которые не считали зазорным напиться до бесчувствия в чужом пиру, оказать таким образом честь хозяевам.
Даша прерывисто вздыхает, и синие бисеринки выпадают из ее разжатой руки, катятся по полу и теряются в щелях. Девушка подходит к окну, открытому по случаю летней жары, тоскливо выглядывает, но видит только высокий забор, обносивший двор женских покоев, кусок ясного неба да отцовского постельничего Антона, который лениво, нога за ногу, пересекает пыльный двор в направлении кладовых. Она ждет у окна, надеясь, что пройдет еще кто-нибудь – все же развлечение, – но двор казначея, обычно многолюдный, будто вымер. Это кажется Даше странным, но потом она решает, что все схоронились от жары – к полудню даже воробьи ищут тени. Ей хочется лечь, соснуть. Никто ее не заругает за леность – Даша единственная дочка, балованная, и ни отец, ни мать еще ни разу толком ее не наказывали, вкуса отцовской плетки она не знает. Матушку он время от времени учит, но с уважением, не до кровавых борозд на спине. Все, что видит дочь от отца, это ласки да подарки, подчас дорогие. Дашу они радуют и смущают – ведь эти вещи пойдут ей в приданое. Матушка разрешает ей рассмотреть их, примерить, если подарена одежда или украшения, а потом прячет в большой сундук – Дашин сундук. Она мечтает собрать дочери такое приданое, чтобы всей Москве в нос бросилось – казначейша страдает грехом тщеславия, да и немудрено. Сама она княжеского роду, урожденная Вяземская, а ее супруг и вовсе чуть не царский родич – с одним из его крестных отцов в родстве. Фуников-Курцов чуть не каждый день видит государя и еще ни разу его опалы не испытал. Кто еще на Москве может похвалиться таким богатым домом, многочисленной дворней, готовой в огонь и в воду, кто зван на все пиры, кого сажают за стол выше всех гостей? Ее муж, езживая в гости к самым знатным особам, не оставляет свою лошадь у ворот, а ставит у крыльца, как равный. Да что там – один раз Фуников, спеша по царскому делу, осмелился проехать через весь кремлевский двор, и что же? Разве били его кнутом? Напротив – царь похвалил его за усердие и торопливость и наградил куньими шкурками, которые опять же пошли Даше в приданое. Царь грозен, но и добр. Так говорит матушка. Кто бы они были без его милостей? И дочь свою выдать матушка ладит за князя, непременно за князя. Ведь и скоморох, у которого батюшка купил правый глаз орла, чтобы вечно носить под мышкой в наговоренном платке и тем самым избежать царского гнева, прямо нагадал Даше – быть ей за князем. Он сжег пучок соломы, высыпал пепел в крещенскую воду, велел матушке выпить и подарить ему что-нибудь. Та подарила десяток беличьих седых шкурок, и скоморох ясно сказал – Даша скоро выйдет замуж за князя. За это матушка подарила его еще и куницами.
– Что такая скушная? – беспокоится наконец нянька, которая с утра тоже не в духе. В отличие от прочей дворни, она винного духа не переносит, и ночное возвращение пьяной госпожи до сих пор не дает ей покоя. – Поела бы?
– Неохота, – лениво отвечает Даша, думая о своем князе. Каков-то он будет? Молодой или в годах? Красивый или так, шершавый какой-нибудь? Злой или ласковый? Матушка не отдаст за бедного и незнатного, не отдаст и за опального, и за того не отдаст, кто к царю не вхож, а за прочего… Какая-то ей выпадет судьба? Даше тревожно и разом сладко. В груди у нее что-то замирает, и, томно прикрыв глаза, она мечтает о том, чтобы князь был похож на того молодого рынду, что служит на пирах царю и стоит от него по правую руку – так говорил батюшка. Каких же он будет? Даша вспоминает – Постниковых. Имени она не знает, при ней не называлось, а спросить стыдно – сразу догадаются, что она умудрилась его как-то видеть. Князь ли Постников? У него такие ясные глаза, совсем синие – вот как бисер, которым она шьет. Собой пригож, строен, как девица, лицом бел – царь на такую должность урода не назначит. Он любит красивые лица. Взять хоть Басманова…
Даша резко вздрагивает и вновь рассыпает бисер. Некстати ей вспомнился Басманов! Сейчас он в опале, взят в приказ, на допрос, и говорят, оправданным от новгородской измены не выйдет. Отец, с тех пор как узнал это, ходит чернее тучи, даже похудел, глаза ввалились. Во дворце затишье и что-то готовится. С Басмановым у отца были какие-то тайные разговоры здесь же, у них в доме – тут Даша его и видела. Постников с ним и приходил. Не будет ли и над ним опалы? У нее тревожно замирает сердце, хотя они еще не сватаны, не сговорены. Нет нужды – ей хочется кого-то считать женихом.
– А я, значит, нет?
Она махнула рукой и погасила свет. Лежа в темноте с открытыми глазами, женщина попыталась вспомнить лицо Люды, спокойный взгляд ее прозрачных голубых глаз, ее неяркую, но приятную улыбку… И обнаружила, что не может этого сделать. Вместо лица являлось размытое серое пятно. Сейчас она не смогла бы даже описать внешность девушки – та превратилась в тень, в туманный силуэт.
– Что такое? – сонно спросил муж. – Ты так дрожишь – вся кровать трясется. Прими успокоительное.
Татьяна приняла, но таблетки не помогли. И напрасно она пыталась уверить себя, что гадание – ложь, а ее фантазии вызваны взвинченными нервами. Сон к ней не шел, а дурные мысли не уходили. Охотнее всего она сейчас прижала бы к себе сына и погоревала вместе с ним – глядишь, и ей, и ему стало бы легче. Но он был далеко.
* * *
Костер горел низко и уютно, угли на краю кострища то рдели, то подергивались сизым пеплом, который улетал в черное небо вместе с искрами. Пламя неярко освещало лица двух людей, сидевших, прижавшись друг к другу, на границе света и тьмы. Женщина подтянула колени к подбородку, обхватила их руками и переплела пальцы. Ее глаза неподвижно смотрели в самую сердцевину огня, туда, где рождались и тут же гибли золотые и оранжевые призраки. Мужчина держал наполовину пустой стакан с вином и изредка к нему прикладывался. Он то и дело поглядывал на свою спутницу, но та как будто ничего не замечала, целиком уйдя в созерцание.
– Тебе все еще грустно? – спросил он наконец. Голос прозвучал хрипло, Дима откашлялся. Странно – теперь он почти робел перед нею. Его терзало смутное чувство вины, хотя Марфа пошла на сближение сама, можно сказать – спровоцировала его.
Женщина качнула головой, опустила веки.
– Пойдем в дом? Ляжем?
Она снова сделала отрицательный жест.
– Ты сердишься на меня? – уже умоляюще спросил Дима. – Жалеешь?
– Нет. Мне хорошо.
– Правда? – обрадовался он и обнял ее. – И мне, знаешь, тоже ужасно хорошо! Я подумал… Это, конечно, не очень красиво, зато правда… Что все было бы просто чудесно, если бы не Люда. Понимаешь? Ты и я, это место… Оно уже не кажется таким унылым. Если не думать о ней, то можно сказать, что я счастлив.
– Ты все-таки скажешь ей правду, если она вернется? – Марфа положила ему на плечо тяжелеющую, сонную голову. – Она тебе этого не простит. Она не из тех, кто прощает ошибки.
– Ты не ошибка!
Марфа прижалась к нему еще теснее и, чуть вздрогнув, шепнула, что тоже всю жизнь ошибается. И в людях, и в самой себе.
– Я ошибаюсь – следовательно, существую. – Она тихонько поцеловала его в шею. – Не хочешь провести работу над ошибками? Только в доме – меня уже кто-то укусил.
И если бы мать Димы узнала о том, как провел ночь ее сын, она была бы поражена этим куда больше, чем загадочными прорицаниями потрепанных карт Ленорман.
Даше скучно и не по себе – у нее все валится из рук. Сегодня, как всегда, она встала с солнцем, умылась, оделась с помощью горничной девки и села было вышивать алтарный покров для церкви Спаса на Ключиках. Матушка обещалась вышить его давно, по обету, да дела не пускали, вот Даша и помогает по мере сил. Обет давался из-за нее же, когда полгода назад она опасно захворала. Чудотворная икона помогла, батюшка щедро пожертвовал на церковь, а матушка села было вышивать, но у нее пошло медленно. Казначейша Фуникова-Курцова живет не как прочие богатые хозяйки – запершись в терему. Она везде звана и бывает, чаще ест в гостях, чем дома. Вот и вчера…
Даша вздыхает и роняет на пол иголку с ниткой. Поднимает, зевает и крестит рот. Работа у нее не спорится, она задумчиво глядит вдаль, забыв о натянутом на раму парчовом полотне, а когда берет цветные бисеринки из деревянных чашек, составленных рядом на скамье, то путает цвета. Плащ Богородицы велено шить синим, а она по ошибке взяла желтый бисер, так что нянька, распарывая ее работу, сердито морщит восковой лоб: «Иудин цвет!» Но девушка не слушает няньку. На душе у нее смутно, она боится чего-то, а чего – толком не знает.
В большом и богатом доме Фуниковых неспокойно. Батюшку Даша не видала уже дня три – он почти не бывает дома, ему даже одежду переменить посылали со слугой в царский дворец. Матушка оттого ходит тревожная, невеселая – она всегда такая, когда батюшка во дворце. Вчера звали ее на пир – гуляли у Залыгиных, богатых купцов, с которыми у батюшки какие-то дела. Она сперва отказалась было, сославшись на то, что не может дом пустым оставить, но ее так упрашивали, что поехала. Вернулась под утро, да не на своих ногах – принесли пьяную. Даша видела это, выскочив на галерейку, где обыкновенно встречала матушку. Она замерла, сдвинув гладкие русые брови, глядя, как слуги проносят мимо нее полное тело матушки, почти неразличимое под парчовыми одеждами и мехами. Та громко, отрывисто храпела, румяна размазались по щекам, белила и сурьма растеклись – на пиру, видно, было жарко. Ее оплывшее лицо казалось покрытым кровью и синяками. На галерейке резко запахло чесноком и романеей – французским вином, до которого матушка была большая охотница. Даша молча отступила в свою светлицу и прилегла на постель, но уснуть ей так и не удалось. Матушка так пьяна – отчего? Никогда ее не приносили, никогда еще казначейша Фуникова не равняла себя с соседками-выпивохами, которые не считали зазорным напиться до бесчувствия в чужом пиру, оказать таким образом честь хозяевам.
Даша прерывисто вздыхает, и синие бисеринки выпадают из ее разжатой руки, катятся по полу и теряются в щелях. Девушка подходит к окну, открытому по случаю летней жары, тоскливо выглядывает, но видит только высокий забор, обносивший двор женских покоев, кусок ясного неба да отцовского постельничего Антона, который лениво, нога за ногу, пересекает пыльный двор в направлении кладовых. Она ждет у окна, надеясь, что пройдет еще кто-нибудь – все же развлечение, – но двор казначея, обычно многолюдный, будто вымер. Это кажется Даше странным, но потом она решает, что все схоронились от жары – к полудню даже воробьи ищут тени. Ей хочется лечь, соснуть. Никто ее не заругает за леность – Даша единственная дочка, балованная, и ни отец, ни мать еще ни разу толком ее не наказывали, вкуса отцовской плетки она не знает. Матушку он время от времени учит, но с уважением, не до кровавых борозд на спине. Все, что видит дочь от отца, это ласки да подарки, подчас дорогие. Дашу они радуют и смущают – ведь эти вещи пойдут ей в приданое. Матушка разрешает ей рассмотреть их, примерить, если подарена одежда или украшения, а потом прячет в большой сундук – Дашин сундук. Она мечтает собрать дочери такое приданое, чтобы всей Москве в нос бросилось – казначейша страдает грехом тщеславия, да и немудрено. Сама она княжеского роду, урожденная Вяземская, а ее супруг и вовсе чуть не царский родич – с одним из его крестных отцов в родстве. Фуников-Курцов чуть не каждый день видит государя и еще ни разу его опалы не испытал. Кто еще на Москве может похвалиться таким богатым домом, многочисленной дворней, готовой в огонь и в воду, кто зван на все пиры, кого сажают за стол выше всех гостей? Ее муж, езживая в гости к самым знатным особам, не оставляет свою лошадь у ворот, а ставит у крыльца, как равный. Да что там – один раз Фуников, спеша по царскому делу, осмелился проехать через весь кремлевский двор, и что же? Разве били его кнутом? Напротив – царь похвалил его за усердие и торопливость и наградил куньими шкурками, которые опять же пошли Даше в приданое. Царь грозен, но и добр. Так говорит матушка. Кто бы они были без его милостей? И дочь свою выдать матушка ладит за князя, непременно за князя. Ведь и скоморох, у которого батюшка купил правый глаз орла, чтобы вечно носить под мышкой в наговоренном платке и тем самым избежать царского гнева, прямо нагадал Даше – быть ей за князем. Он сжег пучок соломы, высыпал пепел в крещенскую воду, велел матушке выпить и подарить ему что-нибудь. Та подарила десяток беличьих седых шкурок, и скоморох ясно сказал – Даша скоро выйдет замуж за князя. За это матушка подарила его еще и куницами.
– Что такая скушная? – беспокоится наконец нянька, которая с утра тоже не в духе. В отличие от прочей дворни, она винного духа не переносит, и ночное возвращение пьяной госпожи до сих пор не дает ей покоя. – Поела бы?
– Неохота, – лениво отвечает Даша, думая о своем князе. Каков-то он будет? Молодой или в годах? Красивый или так, шершавый какой-нибудь? Злой или ласковый? Матушка не отдаст за бедного и незнатного, не отдаст и за опального, и за того не отдаст, кто к царю не вхож, а за прочего… Какая-то ей выпадет судьба? Даше тревожно и разом сладко. В груди у нее что-то замирает, и, томно прикрыв глаза, она мечтает о том, чтобы князь был похож на того молодого рынду, что служит на пирах царю и стоит от него по правую руку – так говорил батюшка. Каких же он будет? Даша вспоминает – Постниковых. Имени она не знает, при ней не называлось, а спросить стыдно – сразу догадаются, что она умудрилась его как-то видеть. Князь ли Постников? У него такие ясные глаза, совсем синие – вот как бисер, которым она шьет. Собой пригож, строен, как девица, лицом бел – царь на такую должность урода не назначит. Он любит красивые лица. Взять хоть Басманова…
Даша резко вздрагивает и вновь рассыпает бисер. Некстати ей вспомнился Басманов! Сейчас он в опале, взят в приказ, на допрос, и говорят, оправданным от новгородской измены не выйдет. Отец, с тех пор как узнал это, ходит чернее тучи, даже похудел, глаза ввалились. Во дворце затишье и что-то готовится. С Басмановым у отца были какие-то тайные разговоры здесь же, у них в доме – тут Даша его и видела. Постников с ним и приходил. Не будет ли и над ним опалы? У нее тревожно замирает сердце, хотя они еще не сватаны, не сговорены. Нет нужды – ей хочется кого-то считать женихом.
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: