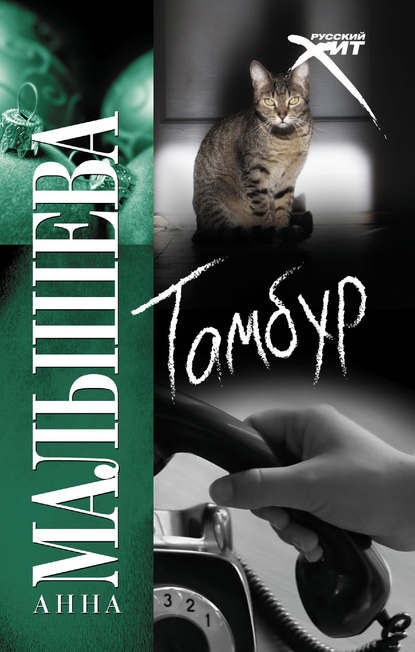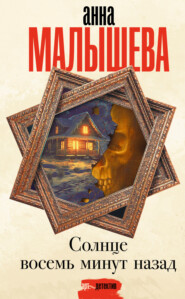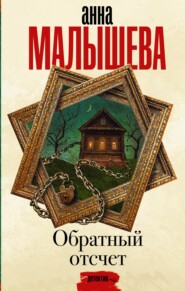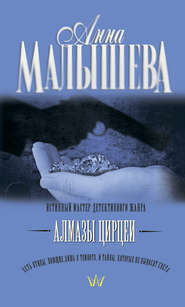По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Тамбур
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– С меня хватит того, что убили Алексея Михайловича. Вы в курсе, кто такой был Боровин? Иди спать! – ее крик прозвучал еще более истерично. Девочка мгновенно исчезла в комнате и захлопнула за собою дверь.
– Боровин – один из самых лучших в Москве преподавателей итальянского языка, – женщина раздувала тонкие, четко вырезанные ноздри, отчего становилась похожей на дикое животное кошачьей породы. На рысь или пантеру. – Его ученики платили немалые деньги. У него были связи по всему миру!
– Так что вы слышали вечером? – Следователь упорно стоял на своем, хотя и принял к сведению эти показания. – Ваша дочь…
– Она – ребенок! – рявкнула женщина. – Оставьте ее в покое! Я, во всяком случае, ничего не слышала! Мы были за городом, потом вернулись и легли спать. Боровин… Немыслимо! Именно он когда-то, принимая учеников, ввел этот обычай – не запирать дверь. У него побаливали ноги, и каждый раз ходить, отпирать, для него было трудно. За ним и все другие это переняли. Первой – Нина Павловна. Она работала на него, печатала научные работы и переводы. Женщина старого закала… Машинистка – от Бога. Выдавала громадные объемы за пару часов. Работала день и ночь – только позови. Умерла от рака. Сигареты изо рта не вынимала. И конечно, когда Боровин перестал запирать дверь, она тоже стала так поступать. Он ведь постоянно нуждался в ее услугах. Она ушла недавно… – Женщина употребила это деликатное выражение, будто отдавая последний долг усопшей.
– Третья квартира – ваша?
– Ну, разумеется, – та вскинула голову. – Я тут родилась, надеюсь, что и умру здесь. А четвертая… Ну, там сейчас живет молодой человек. Без определенных занятий. Мне до него дела нет.
Она внезапно сжала ладонями виски:
– Господи! Получается, что из прежних жильцов осталась я одна! Сперва умерла Нина Павловна. В квартире поселилась… Татьяна, вы сказали? Потом умер этот пожилой инженер… Имени не припомню, мало общались. Отчего умер? Тоже не помню… Не помню! – Ее голос начинал срываться. – Снова вместо него новый жилец – племянник. И вот вам – Боровин! Да как нехорошо умер! И вот мы со Светкой остались одни…
И произошло то, о чем никто и помыслить не мог – с этой сухой, сдержанной женщиной случился нервный припадок. Она рухнула на пол и, впиваясь ногтями в паркет, завыла:
– Не могу больше!
Следователь покинул квартиру, легким движением головы дав знак своим подчиненным идти за ним. Если с женщиной истерика – ей лучше не мешать. Они постучались в следующую дверь. Ту самую, где жил молодой парень, который, возможно, тоже мог что-то видеть и слышать.
Дверь была приоткрыта.
Звонок
– Ну кто еще там? – пробормотала Галина, натягивая пальто. Она хотела сбегать в ночной киоск за сигаретами. Это и заняло бы всего минут десять… Однако не снять трубку – значило лишиться работы. Иногда звонило начальство – для проверки. Вслепую застегиваясь (многие пуговицы болтались на ниточках, а времени пришить их не было), она обреченно ответила:
– Да?
– Любовь, любить велящая любимым,
Меня к нему так властно привлекла,
Что этот плен ты видишь нерушимым…
Любовь вдвоем на гибель нас вела…
Голос звучал, будто из могилы, и Галина его узнала. Это было слишком. Такого (такую) скоро не отшвырнешь. А для милосердия у нее уже не осталось сил.
– Данте хотел описать ад, – прошептал голос, – а описал рай. Любовь… Кого бы ни любить, только бы любить! И я люблю. Все еще люблю.
– Простите?
– Да я вас прощаю. Интересно, простит ли меня Бог?
«Это тот, кто хотел покончить с собой. Или та? Однако же не покончил. Предпочел (или предпочла) доставать меня».
– Это цитата из пятой песни «Ада», – любезно сообщил голос. – О сладострастниках. Вам это о чем-то говорит?
– Боюсь, что нет. – Галина раздраженно принялась стаскивать пальто, ей стало жарко.
– На досуге прочитайте.
– Я постараюсь.
«Какой там досуг? Белье нестирано третий месяц! И я вообще не помню, когда готовила нормальный ужин! А муж? Вообще со мной не говорит. А дочь? С нею что-то творится. Проблемы роста. Мне впору самой звонить на телефон доверия. И еще – кто погуляет с собакой?!»
– А вот еще цитата, – продолжал голос. – Вы можете воспринимать это, как завещание. Песнь тринадцатая.
«Когда так часто звонят и говорят о самоубийстве, это значит, что самоубийства не будет».
– И тот из вас, кто выйдет к свету дня,
Пусть честь мою излечит от навета,
Которым зависть ранила меня!
– Это и есть завещание, – слабо повторил бесполый голос. – Я понимаю, что бросаю его в пустоту. Я для вас никто. И вы для меня – тоже. В песне тринадцатой говорится о самоубийстве. О вынужденном самоубийстве.
– Вас кто-то вынуждает покончить с собой? – Галина присела в кресло, покусывая палец. Эта нервная реакция всегда появлялась у нее в минуты сильного волнения.
– А вот еще цитата, – игнорируя вопрос, заметил голос. – Из песни пятнадцатой. Послушайте. Это интересно. Интересней, чем вы думаете:
Во мне живет и горек мне сейчас
Ваш отчий образ, милый и сердечный,
Того, кто наставлял меня не раз…
– Он был для меня всем, – после паузы сказал голос. – Учителем, другом, отцом… Любовником.
– Кто – он?! – В эти рассветные часы Галину всегда клонило в сон, но теперь женщина чувствовала себя так, будто проглотила чашку крепкого кофе. О своих неприятностях она забыла. Галина всегда умела от них отрешиться, когда чуяла настоящую беду. Это и принесло ей популярность среди голосов, которые наводняли по ночам телефонную трубку. Тот, кто звонит в такое время, всегда чувствует – говорят ли с ним по обязанности или из сострадания.
– Он для меня был тем, чем Брунетто Латини был для молодого Данте. Он был всем. Пусть будет стыдно тому, кто подумает о нем дурно, – без выражения сказал голос. А Галина отлично знала – когда из голоса звонящего стирается выражение – дело серьезное. Тот, кому по-настоящему больно, старается казаться равнодушным. – Когда мы встретимся в аду, я упаду перед ним на колени и поцелую руку. И если мне предложат рай и скажут, что его в нем не будет, я выберу ад. Но…
В трубке послышался тихий, ледяной смешок.
– Но я уверен, что мы сойдем на одной станции. И вот что я еще хотел сказать… Я ведь не пытаюсь оправдаться. Я лишь хочу рассказать, как все было. Можете считать, что я даю показания.
«Я говорю с сумасшедшим, – думала Галина, спешно припоминая методики, которыми пользовалась в таких экстренных случаях. – И он в самом деле, что-то совершил. Или думает, что совершил».
– Не помню сам, как я вошел туда,
Настолько сон меня опутал ложью,
Когда я сбился с ложного следа.
«Я сейчас сама рехнусь!»
– Надеюсь, – с внезапным ехидством произнес голос, только что с выражением читавший стихи, – мне не придется цитировать еще и начало «Божественной комедии»? Мне всегда казалось странным то, что Данте сразу заявил, что он «земную жизнь прошел до половины». Откуда он мог знать, когда умрет? Я-то, например, знаю. Я умру сейчас.
И Галина, с трудом удерживая трубку – рука тряслась, услышала, что ее собеседник двадцать минут назад перерезал себе вены и надеется, что скоро умрет. От всей своей погубленной души надеется. На полу уже большая лужа крови. Пальцы не слушаются, нож выпал. А ей – спасибо за теплый разговор. И удачи!
– Постойте! – крикнула она. Рванулась, и трубка упала на пол. Когда женщина прижала ее к уху, там раздавались ровные длинные гудки.
«Это правда! Все было правдой! Все эти три разговора не были блефом! Сейчас он умрет!»