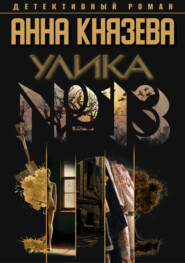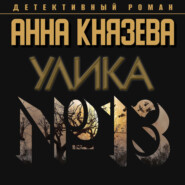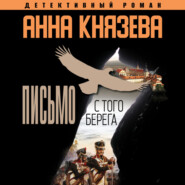По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Роман без последней страницы
Автор
Год написания книги
2014
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Шутишь? Я правильно понял: до двадцатого года прошлого столетия? Ты хоть понимаешь, сколько ему должно быть лет?
– Я же предупредила.
– Передам в свой отдел безопасности. Но вряд ли его найдут. Теперь столько не живут. Особенно мужики.
– Ты у меня проживешь очень долго.
– Подлиза, – сказал отец. – Мне надо вернуться на совещание.
Он отключился.
Дайнека бездумно смотрела во двор сквозь окно. Из их подъезда вышли двое рабочих и отправились к арке. Оттуда появилась высокая девушка и пошла через двор.
Дайнека сорвалась с места прежде, чем поняла зачем. Не одеваясь, выскочила в подъезд, спустилась по лестнице, пулей вылетела во двор и кинулась к внучке пострадавшей старухи, Светлане, которая в этот момент заходила в подъезд.
Тяжелая металлическая дверь захлопнулась перед самым Дайнекиным носом.
– Вот так, – сказала она себе и поплелась обратно.
Пройдя пару метров, остановилась. У подъезда стоял золотистый «Бентли».
К счастью, под входную дверь опять подложили камень. Она успешно проникла в подъезд без ключей и подошла к лифту. Там стоял мрачный тип в черном пальто. Из-за его плеча выглянул добродушный старик.
– Пусти девочку в лифт, – не то приказал, не то попросил он.
Дайнека не стала ждать еще одного приглашения, зашла в кабину и встала рядом со стариком.
– Тебе на какой? – В его голосе звучала забота.
– На второй.
Он улыбнулся и, ничего не сказав, просто нажал сначала вторую кнопку, потом – третью.
– Вы на третий? – спросила Дайнека.
– Там снимают кино. Слышала?
– Вы – артист? – поинтересовалась она.
– Еще какой! – хохотнул старичок.
Дверцы лифта открылись, и Дайнека вышла. Дома схватила телефон и позвонила Сергею.
– Слушай, ты здесь?
Он прошептал:
– Некогда мне… Родионов сидит в кутузке, а на съемочной площадке – инвестор.
Теперь у нее не было никаких сомнений: инвестор, старик в лифте и Ефременко – один и тот же человек.
Глава 35
Флешбэк № 7
Село Муртук
январь 1944 года
Ровно месяц проработала Манечка на дороге. Освоилась, притерпелась. За день выхаживала пять-шесть концов. Рубила ледяные бугры, как велели. Возчики говорили, что ее километр самый ровный. Теперь она знала всех, но лучше других – безрукого Проню. Он, когда мимо нее проезжал, всегда останавливался. Заговаривал, рассказывал про себя: вернулся, дескать, с войны без руки, нанялся в леспромхоз.
Манечка больше слушала. О себе ничего не рассказывала, только раз и спросила, глядя на его обветренное лицо:
– Сколько ж тебе лет, дядька?
– Двадцать шесть, – ответил Проня.
– Выходит, ты всего-то на семь лет старше меня? – Манечка растерялась. Она-то думала, что он как ее батька.
В декабре ее перевели на делянку рубить сучки. Работа такая: брать по одной хлыстине и рубить ветки с лапками. У макушки, где тонкий сучок, – легче. К середке – потяжелей. Как обтешешь залыску[19 - Залыска – очищенный от веток хлыст.], ее раскорчуют. Потом все вместе грузят бревна на сани. Снег глубокий, а бревно нужно поднять. Провалишься в сугроб по грудь и ничего сделать не можешь.
Возчик Проня, хоть и с одной рукой, всегда помогал бабам. Когда и прикрикнет, а глаза добрые-добрые и синие-синие. И морщинки вокруг глаз светлые, будто незагорелые.
В первый же день Манечка промахнулась и топором тюкнула себе по ноге. Прорубила через батькины кальсоны до самой кости. К утру нога загноилась, до делянки Маня еле доковыляла. Мучилась несколько дней, а когда терпеть сил не осталось, пошла в медпункт к фельдшеру. Фельдшер – немец, переселенец с Поволжья, ногу лечить не стал, сказал – сама заживет.
Возчик Проня, когда узнал, пошел и дал ему по башке. Тот сразу принес мазь, и все зажило.
Теперь Манечка часто уезжала домой на санях. С Проней всегда хорошо. С другими возчиками – если прицепится. Вальщицы и рубщики цеплялись за бревна, потому что в село сани отправляли только гружеными.
Бывало, и падали. На ее глазах шестнадцатилетний мальчишка, переселенец с Украины, под сани свалился на всем ходу. Когда его тело привезли к бараку, мать рвала на себе волосы, кричала, звала сына по имени: «Михальцуне!» – верила, что он еще жив, одеялом укрывала, встать уговаривала.
Бабы вокруг нее обревелись. Да что ж делать, его уж не вернуть.
Рожать Манька стала в лесу, когда рубила сучки. Отбросила топор, схватилась за живот и упала на мягкие лапки[20 - Лапки – лапник, ветви хвойных деревьев.]. Крикнула:
– Бабы, рожаю!
Там же, на делянке, у нее отошли воды. Из лесу понабежали вальщицы, схватили ее под руки и потащили к саням. Сбросили бревна. Проня кинул в сани свой тулуп, сам остался в тонкой фуфаечке. Маньку уложили поверх тулупа.
Проня гнал лошадь до самой теткиной хаты. Пока ехали, нет-нет обернется да скажет:
– Манечка, почему не кричишь? Кричи, легче будет!
Как привез в теткин двор, взял одной рукой и потащил ее в дом. Тетка велела положить Маньку на кровать, кинулась греть воду и рвать тряпки. Проня поехал за повитухой. Та, когда приехала, ребенок уже вышел, только пупик отрезала. Помыла его, к Манечке на кровать подложила.
– Мальчонка слабенький, недоношенный.
А Манечка про себя так решила: если – сынок, колбинская старуха ее не обманула. А значит, и выживет, и вырастет, и большим начальником станет. Она приложила сына к груди, тот присосался и посмотрел на нее будто бы взрослый.