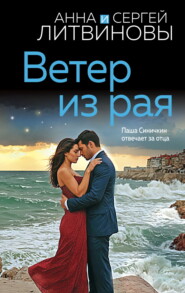По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Предпоследний герой
Автор
Серия
Год написания книги
2003
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Сам он «слепой» метод так и не освоил, зато у Насти дела быстро пошли на лад, и начальник ругаться на нее перестал. Даже сказал, что «секретарша-филолог – это для нашего издательства слишком хорошо». И предложил ей – в свободное от основной работы время! – редактировать рукописи.
Настя, конечно, испугалась: да кто она такая, чтобы править настоящих писателей! Она не раз слышала, как современные Толстые – Тургеневы являются к шефу с претензиями: «Ваши редакторы опять изгадили мою рукопись своими грязными лапами!»
«А вдруг мои руки они тоже назовут грязными?» – переживала Настя.
Но Сеня твердо сказал:
– Не трусь. Главное – ничего не вычеркивай. А ляп увидишь – перепиши своими словами. Чтобы смысл был тот же, но – грамотней.
– Да какие там ляпы, – пробормотала Настя. – Это ведь писатели, они, наверно, знают, что пишут…
Сенька только хмыкнул:
– Ого-го!.. Еще увидишь, на что способны эти писатели!
Настя увидела – очень скоро.
– Похоже, они и средней школы-то не закончили! – удивлялась она. – Падежи путают. Или вот, послушай: «В темноте тучи было не разобрать ни рук, ни голов».
Но Настя посмеивалась над писателями только в кругу семьи. А с их рукописями обращалась по-настоящему осторожно. Чтобы не обидеть, не оскорбить ранимые души. Изо всех сил старалась не вычеркивать явную глупость, а переписать ее: хоть как-то. Высшим пилотажем считала, когда писатели говорили: «Эта ваша Настя в моей рукописи и не поменяла ничего…»
Шеф, конечно, был доволен. А Настя – по-настоящему счастлива. Впервые у нее появилось дело, которое она делает хорошо. Лучше других! Начальник стал все чаще ее хвалить, да и ее зарплата в семье совсем не лишняя. А главное – уверенность в себе появилась (как ведь ее, заразы, раньше-то не хватало!).
А теперь к ней даже гений-Сенька обращается – просит свои журналистские материалы отредактировать. И Настя – ничего, справляется, говорит ехидненько мужу:
– Как это: «В ночи призывно горела бензоколонка»? Пожар там у них, что ли?
Муж оправдывается:
– Ну, это… витрина у них светилась.
– Вот так и напиши: «Светил огонек бензоколонки», – важно советовала Настя.
А Сенька чмокал ее в нос и искренне говорил:
– Умничка ты моя! Вот повезло мне с женой: и красавица, и хозяюшка, а уж редактор какой!
И Настя млела от его похвал и неуверенно спрашивала себя: «Неужели у меня теперь все в жизни будет хорошо?»
Подозрительно как-то, когда все идет так складно…
Однако – тьфу, тьфу, тьфу – слава богу, ничего такого не случалось. Николенька в своем спецсадике чувствовал себя прекрасно. Сеня вечерами спешил домой – часто с букетом, а два раза в месяц – с приличной зарплатой. И Настина карьера шла в гору – шеф прозрачно намекал, что с осени она займет должность ведущего редактора.
Поэтому пришлось согласиться: наконец-то и в ее жизни все наладилось.
Наконец-то она, Настя Капитонова, по-настоящему счастлива.
…И вот в один из таких счастливых, безмятежных дней той весны Насте вдруг позвонила мать.
Позвонила – и безапелляционным тоном потребовала немедленно приехать к ней.
Настя послушалась – безоговорочно, как в детстве.
Ехала и злилась: «Что там еще ей в голову взбрело?» И прикидывала, как будет отбиваться от мамашкиных претензий.
Однако разговор пошел совсем не так, как представляла Настя.
– Я умираю, – сказала мать, когда дочь приехала в ее квартиру на Большой Бронной.
Произнесены эти слова были настолько просто, безыскусно и спокойно, что Настя тут же с ужасом поняла: это – правда.
Мать не сразу ошеломила дочь страшной новостью. Сперва проводила Настю на кухню, усадила, налила чаю.
Ирина Егоровна была, как всегда, величественной и спокойной. Никакого надрыва. Никакого трагизма. Однако выглядела она ужасно. Всегда тщательно следившая за собой, мать обычно смотрелась лет на тридцать пять (вместо своих сорока трех).
Теперь Настя была поражена происшедшей с ней переменой. Перед ней предстала женщина глубоко за пятьдесят, старая и больная. Мешки под глазами. Растрепанные полуседые волосы. Исхудавшие, костистые руки. Желтое, иссохшее лицо.
– Боже, мама, – выдохнула Настя. – Почему… Почему ты вдруг так решила?.. Что с тобой?
– Рак, – спокойно ответила та, и короткое слово прозвучало как приговор. И припечатала – словно подвела черту под собственной жизнью: – У меня рак мозга.
– Боже мой… – пролепетала Настя. – Но… Но это же лечится… – Оглушенная вестью, она сама не верила в то, что говорит.
– Не в моем случае, – безапелляционно отрезала мать.
– Кто тебе сказал?
– Все. Сказали – все. Врачи в «Кремлевке». И в Онкоцентре. И сам академик Блохин.
Мать сидела напротив Насти за кухонным столом. Ее лицо, необычайно постаревшее, было, как всегда, спокойным.
Настя неотрывно смотрела на нее. Ирина Егоровна умела быть беспощадной. И к окружающим, и к самой себе. Она не признавала полутонов и всегда называла вещи своими именами. «Неудивительно, что именно матери врачи рассказали правду, – мелькнуло у Насти. – И о диагнозе, и о прогнозе. Рассказали – хотя никогда никому не рассказывают. И всех утешают… Но… Это же моя мать… Она заставит признаться кого угодно…»
Еще вчера Насте казалось, что она никогда в жизни больше не увидит мать. И даже нисколько не огорчится, когда вдруг узнает, что та – умерла. Слишком сильна была ее злость на мать. Злость и обида.
«Она искалечила мне всю жизнь», – считала Настя. И имела на то основания.
Но вот теперь, видя потерянное, опрокинутое лицо матери, она вдруг испытала к ней беспредельную жалость.
Или, может, причиной тому была знакомая с детства обстановка? Предметы, звуки и запахи? Отдаленный рокот редких машин, проезжавших по Бронной… Старая сахарница красного стекла с надписью «RIGA»… Запахи квартиры… Родной квартиры и кухни… И – матери…
– Давай-ка я налью тебе еще чаю, – с удивительной, несвойственной ей сердечностью проговорила мать. И добавила: – Мне надо тебе многое рассказать. Во многом признаться… Ешь конфетки. Вот «Мишки» – кажется, твои любимые?
За полгода до описываемых событий
Декабрь 1989 года
Чехословакия. Прага
Настя, конечно, испугалась: да кто она такая, чтобы править настоящих писателей! Она не раз слышала, как современные Толстые – Тургеневы являются к шефу с претензиями: «Ваши редакторы опять изгадили мою рукопись своими грязными лапами!»
«А вдруг мои руки они тоже назовут грязными?» – переживала Настя.
Но Сеня твердо сказал:
– Не трусь. Главное – ничего не вычеркивай. А ляп увидишь – перепиши своими словами. Чтобы смысл был тот же, но – грамотней.
– Да какие там ляпы, – пробормотала Настя. – Это ведь писатели, они, наверно, знают, что пишут…
Сенька только хмыкнул:
– Ого-го!.. Еще увидишь, на что способны эти писатели!
Настя увидела – очень скоро.
– Похоже, они и средней школы-то не закончили! – удивлялась она. – Падежи путают. Или вот, послушай: «В темноте тучи было не разобрать ни рук, ни голов».
Но Настя посмеивалась над писателями только в кругу семьи. А с их рукописями обращалась по-настоящему осторожно. Чтобы не обидеть, не оскорбить ранимые души. Изо всех сил старалась не вычеркивать явную глупость, а переписать ее: хоть как-то. Высшим пилотажем считала, когда писатели говорили: «Эта ваша Настя в моей рукописи и не поменяла ничего…»
Шеф, конечно, был доволен. А Настя – по-настоящему счастлива. Впервые у нее появилось дело, которое она делает хорошо. Лучше других! Начальник стал все чаще ее хвалить, да и ее зарплата в семье совсем не лишняя. А главное – уверенность в себе появилась (как ведь ее, заразы, раньше-то не хватало!).
А теперь к ней даже гений-Сенька обращается – просит свои журналистские материалы отредактировать. И Настя – ничего, справляется, говорит ехидненько мужу:
– Как это: «В ночи призывно горела бензоколонка»? Пожар там у них, что ли?
Муж оправдывается:
– Ну, это… витрина у них светилась.
– Вот так и напиши: «Светил огонек бензоколонки», – важно советовала Настя.
А Сенька чмокал ее в нос и искренне говорил:
– Умничка ты моя! Вот повезло мне с женой: и красавица, и хозяюшка, а уж редактор какой!
И Настя млела от его похвал и неуверенно спрашивала себя: «Неужели у меня теперь все в жизни будет хорошо?»
Подозрительно как-то, когда все идет так складно…
Однако – тьфу, тьфу, тьфу – слава богу, ничего такого не случалось. Николенька в своем спецсадике чувствовал себя прекрасно. Сеня вечерами спешил домой – часто с букетом, а два раза в месяц – с приличной зарплатой. И Настина карьера шла в гору – шеф прозрачно намекал, что с осени она займет должность ведущего редактора.
Поэтому пришлось согласиться: наконец-то и в ее жизни все наладилось.
Наконец-то она, Настя Капитонова, по-настоящему счастлива.
…И вот в один из таких счастливых, безмятежных дней той весны Насте вдруг позвонила мать.
Позвонила – и безапелляционным тоном потребовала немедленно приехать к ней.
Настя послушалась – безоговорочно, как в детстве.
Ехала и злилась: «Что там еще ей в голову взбрело?» И прикидывала, как будет отбиваться от мамашкиных претензий.
Однако разговор пошел совсем не так, как представляла Настя.
– Я умираю, – сказала мать, когда дочь приехала в ее квартиру на Большой Бронной.
Произнесены эти слова были настолько просто, безыскусно и спокойно, что Настя тут же с ужасом поняла: это – правда.
Мать не сразу ошеломила дочь страшной новостью. Сперва проводила Настю на кухню, усадила, налила чаю.
Ирина Егоровна была, как всегда, величественной и спокойной. Никакого надрыва. Никакого трагизма. Однако выглядела она ужасно. Всегда тщательно следившая за собой, мать обычно смотрелась лет на тридцать пять (вместо своих сорока трех).
Теперь Настя была поражена происшедшей с ней переменой. Перед ней предстала женщина глубоко за пятьдесят, старая и больная. Мешки под глазами. Растрепанные полуседые волосы. Исхудавшие, костистые руки. Желтое, иссохшее лицо.
– Боже, мама, – выдохнула Настя. – Почему… Почему ты вдруг так решила?.. Что с тобой?
– Рак, – спокойно ответила та, и короткое слово прозвучало как приговор. И припечатала – словно подвела черту под собственной жизнью: – У меня рак мозга.
– Боже мой… – пролепетала Настя. – Но… Но это же лечится… – Оглушенная вестью, она сама не верила в то, что говорит.
– Не в моем случае, – безапелляционно отрезала мать.
– Кто тебе сказал?
– Все. Сказали – все. Врачи в «Кремлевке». И в Онкоцентре. И сам академик Блохин.
Мать сидела напротив Насти за кухонным столом. Ее лицо, необычайно постаревшее, было, как всегда, спокойным.
Настя неотрывно смотрела на нее. Ирина Егоровна умела быть беспощадной. И к окружающим, и к самой себе. Она не признавала полутонов и всегда называла вещи своими именами. «Неудивительно, что именно матери врачи рассказали правду, – мелькнуло у Насти. – И о диагнозе, и о прогнозе. Рассказали – хотя никогда никому не рассказывают. И всех утешают… Но… Это же моя мать… Она заставит признаться кого угодно…»
Еще вчера Насте казалось, что она никогда в жизни больше не увидит мать. И даже нисколько не огорчится, когда вдруг узнает, что та – умерла. Слишком сильна была ее злость на мать. Злость и обида.
«Она искалечила мне всю жизнь», – считала Настя. И имела на то основания.
Но вот теперь, видя потерянное, опрокинутое лицо матери, она вдруг испытала к ней беспредельную жалость.
Или, может, причиной тому была знакомая с детства обстановка? Предметы, звуки и запахи? Отдаленный рокот редких машин, проезжавших по Бронной… Старая сахарница красного стекла с надписью «RIGA»… Запахи квартиры… Родной квартиры и кухни… И – матери…
– Давай-ка я налью тебе еще чаю, – с удивительной, несвойственной ей сердечностью проговорила мать. И добавила: – Мне надо тебе многое рассказать. Во многом признаться… Ешь конфетки. Вот «Мишки» – кажется, твои любимые?
За полгода до описываемых событий
Декабрь 1989 года
Чехословакия. Прага