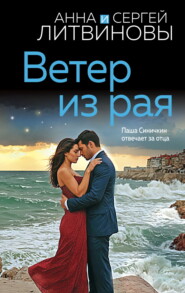По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Одноклассники smerti
Автор
Год написания книги
2008
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– У меня нет больше этой дочери.
«А голос, если она заведется, у нее сильный. Будто колокол. Могла б в оперные певицы пойти», – мелькнуло у Полуянова.
У него аж в ушах от последней громкой реплики зазвенело. А из недр квартиры вдруг раздался жалобный, тонкоголосый плач.
И Галину Вадимовну будто подменили. Только что жесткое, безжалостное лицо осветилось счастливой улыбкой.
– Маська! – радостно пробормотала она.
И со скоростью, сделавшей бы честь любой спортсменке, ринулась из коридора прочь. Удивленный Дима не стесняясь двинул за ней. И в сумрачной, на окнах плотные шторы, гостиной застал идиллическую картину: Галина Вадимовна, волшебным образом помолодевшая, глаза сияют, качала на руках маленькую девочку. Светлые кудри, худенькие ручки-ножки, пижама с россыпью сказочных медведей. В детском возрасте Полуянов не разбирался, но ребенку, кажется, было не больше двух лет.
– Баю-баюшки-баю, – пропела красивым голосом Галина Вадимовна. И на тот же мотив закончила: – Жди-те в кухне, я при-ду!
Полуянов повиновался. Прошел на кухню, плюхнулся на единственную свободную табуретку – остальные были завалены игрушками, надкушенными яблоками, перепачканной детской одеждой.
Он осмотрелся – типовые российские шесть метров. Убирать здесь, конечно, пытались, но ремонта явно не было уже лет двадцать.
Дима подавил жесточайшее желание закурить. Ну и ну, вот так семейка! Кем, интересно, эта маленькая девочка приходится Галине Вадимовне?
Его взгляд упал на прикрепленный к кухонной стене альбомный листок. Он изображал солнце – весьма кривобокое, с хаотично размещенными лучами. А под ним – еще более неуверенная надпись: «МАМАЧКЕ».
Мама? Но позвольте, уж пятьдесят-то Коренковой-старшей точно есть! А девочке – никак не больше трех!
За спиной зашелестели шаги. Журналист обернулся – на пороге стояла Галина Вадимовна. Она тут же приложила палец к губам, еле слышно попросила:
– Пожалуйста, очень тихо… У Маськи такой чуткий сон…
И Дима, тоже шепотом, потребовал:
– А кто она, эта Маська?
– Как кто? – изумилась женщина. – Дочь. – И голосом подчеркнула: – Моя настоящая дочь. Долгожданная. Любимая.
Она гордо вскинула голову и, будто не с незнакомым журналистом разговаривает, а дает клятву ей одной ведомой высшей силе, произнесла:
– И уж с ней-то все будет хорошо. Костьми лягу, но не допущу, чтоб как у Ленки!
Галина Вадимовна устало опустилась на соседнюю табуретку – прямо поверх лежащих на ней детских вещичек. Проницательно спросила:
– Вы, наверно, хотите курить?
– Мечтаю, – не стал врать Полуянов.
– Я тоже… мечтаю, – вздохнула она. – Уже больше тысячи дней как… Но – держусь. Чтоб не подавать Машеньке дурной пример…
– А давайте – пока она спит. По секрету, – ухмыльнулся Полуянов. И вытащил сигареты.
– Нет-нет, ни в коем случае! – всполошилась женщина. – Еще мне не хватало сейчас, когда столько всего позади, сорваться!
Жадно, будто алкаш на бутылку, взглянула на пачку «Мальборо» и попросила:
– Пожалуйста, уберите.
– Как скажете, – вздохнул Полуянов.
А Галина Вадимовна, будто оправдываясь, произнесла:
– Раньше… когда росла Леночка… я не сдерживалась. Считала, что имею право на личные, никому не подотчетные привычки. Что могу при дочери и курить, и выпивать. Только сейчас, к пятидесяти, я поняла: настоящая жизнь – это самоограничение…
Тут Полуянов был готов поспорить: он всегда считал, что лучше совершить что-нибудь порочное, нежели, как эта женщина, годами страдать и видеть запретный плод лишь во снах. Но дискуссию решил не затевать. Куда лучше воспользоваться тем, что разговор очень кстати свернул на Елену.
И Дима тихо спросил:
– Скажите… когда Лена начала пить?
– Очень рано. В пятнадцать, – жестко бросила Галина Вадимовна. И неожиданно добавила: – Все из-за нее! Ее подружки!
– Какой? – навострил уши журналист.
И в изумлении услышал:
– Да этой простушечки! Митрофановой!
– Надьки? – вырвалось у него.
– Вы ее знаете? – подняла брови женщина.
– Да нет, пока не знаю, – поспешно открестился от подруги Полуянов. – Просто списки выпускников смотрел. И слышал, что Надя с Леной были соседки. Ну и приятельницы…
– Не приятельницы – собутыльницы, – саркастически поправила его Галина Вадимовна.
Еще интересней.
– Не слишком ли крепкое определение? Для пятнадцатилетних девочек? – прищурился Полуянов.
– Для нее, Митрофановой, в самый раз, – припечатала женщина. – На ней уже тогда пробы негде было ставить.
Журналист еле удерживался, чтоб не расхохотаться. Это на Надьке-то, домашней девочке, негде ставить пробы! Да в пятнадцать лет! Ее и сейчас-то, в двадцать семь, на жалкий бокал мартини уболтать – целое дело. А не безумна ли, простите, Галина Вадимовна?
Хотя червячок сомнения, конечно, зашевелился. Как там великий Куприн писал? Что из раскаявшихся проституток получаются самые лучшие жены? Может, это правда? Может, и Надежда теперь не пьет, потому что в юности свою норму перевыполнила?
И он осторожно произнес:
– Какая там в пятнадцать лет выпивка? Все мы что-то пробовали, конечно. И я тоже. У родителей в заначке литровая бутылка анисовой водки имелась. Парадная. Болгарская. Стояла на почетном месте в горке – как, помните, в застойные времена выставляли. Ну, мы с друзьями оттуда и отливали по граммулечке. И добавляли, чтоб родители не спохватились, воды. Представляете, какой через год скандал разгорелся, когда эту водку решили наконец на стол выставить?
– Не сравнивайте, – отмахнулась Галина Вадимовна. – Одно дело по тридцать или по сколько там у вас получалось грамм водки. И другое – как Надя Елену спаивала. Покупала бутылку ликера на двоих. Крепкого. Двадцать с лишним градусов. Продавались в те годы псевдонемецкие. «Грейпфрут-лимон» или вишневый. А еще джин с тоником только появился в жестяных банках. И они, – женщина опять начала повышать голос, – по три банки выпивали! Можете себе представить: такие девочки – и по три!..
– Каждая? – недоверчиво переспросил журналист.
«А голос, если она заведется, у нее сильный. Будто колокол. Могла б в оперные певицы пойти», – мелькнуло у Полуянова.
У него аж в ушах от последней громкой реплики зазвенело. А из недр квартиры вдруг раздался жалобный, тонкоголосый плач.
И Галину Вадимовну будто подменили. Только что жесткое, безжалостное лицо осветилось счастливой улыбкой.
– Маська! – радостно пробормотала она.
И со скоростью, сделавшей бы честь любой спортсменке, ринулась из коридора прочь. Удивленный Дима не стесняясь двинул за ней. И в сумрачной, на окнах плотные шторы, гостиной застал идиллическую картину: Галина Вадимовна, волшебным образом помолодевшая, глаза сияют, качала на руках маленькую девочку. Светлые кудри, худенькие ручки-ножки, пижама с россыпью сказочных медведей. В детском возрасте Полуянов не разбирался, но ребенку, кажется, было не больше двух лет.
– Баю-баюшки-баю, – пропела красивым голосом Галина Вадимовна. И на тот же мотив закончила: – Жди-те в кухне, я при-ду!
Полуянов повиновался. Прошел на кухню, плюхнулся на единственную свободную табуретку – остальные были завалены игрушками, надкушенными яблоками, перепачканной детской одеждой.
Он осмотрелся – типовые российские шесть метров. Убирать здесь, конечно, пытались, но ремонта явно не было уже лет двадцать.
Дима подавил жесточайшее желание закурить. Ну и ну, вот так семейка! Кем, интересно, эта маленькая девочка приходится Галине Вадимовне?
Его взгляд упал на прикрепленный к кухонной стене альбомный листок. Он изображал солнце – весьма кривобокое, с хаотично размещенными лучами. А под ним – еще более неуверенная надпись: «МАМАЧКЕ».
Мама? Но позвольте, уж пятьдесят-то Коренковой-старшей точно есть! А девочке – никак не больше трех!
За спиной зашелестели шаги. Журналист обернулся – на пороге стояла Галина Вадимовна. Она тут же приложила палец к губам, еле слышно попросила:
– Пожалуйста, очень тихо… У Маськи такой чуткий сон…
И Дима, тоже шепотом, потребовал:
– А кто она, эта Маська?
– Как кто? – изумилась женщина. – Дочь. – И голосом подчеркнула: – Моя настоящая дочь. Долгожданная. Любимая.
Она гордо вскинула голову и, будто не с незнакомым журналистом разговаривает, а дает клятву ей одной ведомой высшей силе, произнесла:
– И уж с ней-то все будет хорошо. Костьми лягу, но не допущу, чтоб как у Ленки!
Галина Вадимовна устало опустилась на соседнюю табуретку – прямо поверх лежащих на ней детских вещичек. Проницательно спросила:
– Вы, наверно, хотите курить?
– Мечтаю, – не стал врать Полуянов.
– Я тоже… мечтаю, – вздохнула она. – Уже больше тысячи дней как… Но – держусь. Чтоб не подавать Машеньке дурной пример…
– А давайте – пока она спит. По секрету, – ухмыльнулся Полуянов. И вытащил сигареты.
– Нет-нет, ни в коем случае! – всполошилась женщина. – Еще мне не хватало сейчас, когда столько всего позади, сорваться!
Жадно, будто алкаш на бутылку, взглянула на пачку «Мальборо» и попросила:
– Пожалуйста, уберите.
– Как скажете, – вздохнул Полуянов.
А Галина Вадимовна, будто оправдываясь, произнесла:
– Раньше… когда росла Леночка… я не сдерживалась. Считала, что имею право на личные, никому не подотчетные привычки. Что могу при дочери и курить, и выпивать. Только сейчас, к пятидесяти, я поняла: настоящая жизнь – это самоограничение…
Тут Полуянов был готов поспорить: он всегда считал, что лучше совершить что-нибудь порочное, нежели, как эта женщина, годами страдать и видеть запретный плод лишь во снах. Но дискуссию решил не затевать. Куда лучше воспользоваться тем, что разговор очень кстати свернул на Елену.
И Дима тихо спросил:
– Скажите… когда Лена начала пить?
– Очень рано. В пятнадцать, – жестко бросила Галина Вадимовна. И неожиданно добавила: – Все из-за нее! Ее подружки!
– Какой? – навострил уши журналист.
И в изумлении услышал:
– Да этой простушечки! Митрофановой!
– Надьки? – вырвалось у него.
– Вы ее знаете? – подняла брови женщина.
– Да нет, пока не знаю, – поспешно открестился от подруги Полуянов. – Просто списки выпускников смотрел. И слышал, что Надя с Леной были соседки. Ну и приятельницы…
– Не приятельницы – собутыльницы, – саркастически поправила его Галина Вадимовна.
Еще интересней.
– Не слишком ли крепкое определение? Для пятнадцатилетних девочек? – прищурился Полуянов.
– Для нее, Митрофановой, в самый раз, – припечатала женщина. – На ней уже тогда пробы негде было ставить.
Журналист еле удерживался, чтоб не расхохотаться. Это на Надьке-то, домашней девочке, негде ставить пробы! Да в пятнадцать лет! Ее и сейчас-то, в двадцать семь, на жалкий бокал мартини уболтать – целое дело. А не безумна ли, простите, Галина Вадимовна?
Хотя червячок сомнения, конечно, зашевелился. Как там великий Куприн писал? Что из раскаявшихся проституток получаются самые лучшие жены? Может, это правда? Может, и Надежда теперь не пьет, потому что в юности свою норму перевыполнила?
И он осторожно произнес:
– Какая там в пятнадцать лет выпивка? Все мы что-то пробовали, конечно. И я тоже. У родителей в заначке литровая бутылка анисовой водки имелась. Парадная. Болгарская. Стояла на почетном месте в горке – как, помните, в застойные времена выставляли. Ну, мы с друзьями оттуда и отливали по граммулечке. И добавляли, чтоб родители не спохватились, воды. Представляете, какой через год скандал разгорелся, когда эту водку решили наконец на стол выставить?
– Не сравнивайте, – отмахнулась Галина Вадимовна. – Одно дело по тридцать или по сколько там у вас получалось грамм водки. И другое – как Надя Елену спаивала. Покупала бутылку ликера на двоих. Крепкого. Двадцать с лишним градусов. Продавались в те годы псевдонемецкие. «Грейпфрут-лимон» или вишневый. А еще джин с тоником только появился в жестяных банках. И они, – женщина опять начала повышать голос, – по три банки выпивали! Можете себе представить: такие девочки – и по три!..
– Каждая? – недоверчиво переспросил журналист.