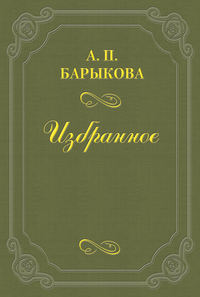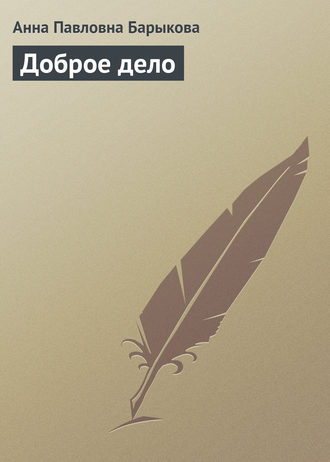
Доброе дело
Василий Сергеевич тоже ел, с завистью любуясь аппетитом гостя.
Кривая кухарка стояла в стороне, сложив руки под передником, и качала головой.
– Чего-чего не выдумают эти господа! Нищего с улицы с собой за стол посадили!.. А тот-то лопает и не разбирает, старый пес, что скоромное!
К концу обеда гость совсем перестал трусить. Сбитому с толку, захмелевшему бедняку казалось теперь, что Изметьев действительно давно-давно знакомый, не гордый, добреющий барин, «душевный»; он разговорился, рассказал Василию Сергеевичу отрывочно, немного заплетающимся языком и поминутно теряя нить рассказа, всю свою биографию, и про господ Тугариновых, и когда, у кого и где он жил после «воли»; как мыкался с места на место и бедствовал; как жена-старуха в больнице померла, и он тогда с горя запил, запутался, не человеком стал; как дочку Настю кондитер один, подлец, за фунт конфет сманил – и бросил; как эта Настя на его руках родами померла, – внучку Саньку, Александру то-есть, на него покинула, и как он тогда зарок дал не пить. И вот с тех пор – восьмой уж год пошел. «Вот-те Христос, милый барин, не пью… Разрази меня Бог!. То-есть так, чтобы пить!.. Разве с холоду рюмочку, другую, или вот в праздник, когда кума Пелагея Григорьевна, святая тоже душа, вот как например вы, сударь, – поднесет».
Сидор Иваныч перестал величать Изметьева «сиятельством», говорил ему: «вы, сударь» и «ты, милый барин».
Василий Сергеевич находил его рассказы много интереснее «дурацкого романа» и ловко перебивал расспросами, когда биография становилась слишком подробной или начинала надоедать.
– Ну, а в музыканты-то ты как попал? Шарманка у тебя откуда?
– Шарманка-то? Шарманка мне, милый барин, по наследству досталась… да, – тальянец у меня знакомый был… Нанялся я тогда у мадамы в кухмистерской служить, а Женара этот самый… это его так звали – Женара… у нее угол снимал. И помирал он от чахотки, больше году помирал… Ну, я, известно, по человечеству… ходил это за ним… Там, например – пить подашь, укроешь, лихорадка его била, либо што… Я ему и глаза закрыл… Так это он мне перед смертью и говорит: возьми, гыт, Нóно, это он меня так звал, не умел, значит, выговорить, например, Иваныч, а все Нóно да Нó… возьми, говорит, всю мою худобишку себе, все, что, говорит, останется… за мою благодарность. Сам помирает, а сам все благодарит… руки мои целует: грация, говорит, грация! Это по-ихнему «спасибо» значит. И в последний раз тихо так сказал: «грация», дышать перестал… Да… Женара… Женара… славный такой, сиротливый паренек был! Морозу не стерпел – помер на чужой стороне… И облизьянка его ученая мне досталась… Махонькая такая, а фокусница, я вам скажу, сударь, человек да и только… Не мало я с ней гривенничков заработал… Да тоже чахоточная была, – сдохла… Теперь вот с внучкой, с Санькой хожу – заместо облизьянки. – Старик рассмеялся во весь рот. – Не плоше мартышки-покойницы – прокуратка!.. Такой девчонки, я вам скажу, милый барин, то-есть, это на удивление, днем с огнем поискать, – бой-девка!.. Песни все, какие угодно, сейчас переймет… А пляшет, так даже многие господа довольно обожают.
В столовую заглянула расфуфыренная, по случаю предстоящого Weihnachtsbaum'а, Мина Карловна в синем шелковом платье с громадным турнюром и вырезанным каре, напудренная, подсурмленная, с блестящей бабочкой на лысеющей голове; она намеревалась прогнать гостя, но Василий Сергеевич так грозно прикрикнул на нее, что она поспешно отретировалась.
Появление нарядной барыни совсем отрезвило старого шарманщика, словно разбудило его; он засуетился, вскочил, вытянулся и с ужасом глядел виноватыми глазами на пролитое, в пылу рассказа, на белоснежную скатерть вино, и на лужу, образовавшуюся на блестящем паркете от его оттаявших валенок.
Когда немка ушла, он тотчас решительно собрался домой, взял шапку в руки и стал откланиваться усердно в пояс и пятиться от стола в переднюю.
– Благодарим за угощенье, ваше сиятельство… Дай вам Бог… Обогрели…
– Куда? Постой, погоди!
– Пора мне, ваше сиятельство… Санька там у меня больная… Ждет… Счастливо оставаться, милый бар… ваше сиятельство!..
– Постой, постой… Как… Санька больная? Чем она больна? Где она?
– У кумы она… У Пелагеи Григорьевны; нонече ровно месяц вот сполнился, как лежит… На Катеринин день простудилась… И так была плоха, страсть… Не чаял и в живых видеть… Моя-то хозяйка квартирная ночью выгнала нас; вези, говорит, девчонку в больницу – у ей, говорит, беспременно, дихтерик, говорит… Ну, я сейчас к куме; спаси, Пелагея Григорьевна, говорю, так и так… А там, у кумы, Яков Егорыч. Дай ему, Господи… и выпользовал мою Саньку… излечил… студент военный у кумы на квартере стоит…
– Так вот что, старина, – перебил его рассказ Василий Сергеевич, тяжело подымаясь из-за стола, и заковылял в кабинет. – Иди за мной… мне тебе еще пару слов сказать надо. Иди за мной; иди, не бойся!
Шарманщик остановился в дверях кабинета, не смея ступить на ковер; а Василий Сергеевич порылся в пузатом бюро и достал оттуда сторублевую бумажку.
«Это Борькины праздничные», – рассмеялся он под седыми усами, вспомнив визит ненавистного наследника; потом обернулся к шарманщику.
– Ну, старый друг, отдай-ка вот этот портрет Саньке своей на елку от меня. Да приводи ее ко мне, когда выздоровеет, слышишь? Чего ж ты? Бери! Или очумел? Кланяйся, благодари: приведу, мол, добрый барин!
Сидор уронил шапку, взял бумажку и разглядывал ее, вертя в корявых пальцах. Он опять словно опьянел; голова кружилась, в висках стучало, в глазах рябило. Радужная, сто рублей! Саньке?.. За что?.. он не понимал. Это шутит барин, смеется… Дал подержать и сейчас же вот отнимет. Смеются, конечно… известно – господа!.. Уж лучше бы скорее отнял… А вдруг в самом деле?.. Ну, если б пять… можно поверить, потому барин добреющий. А сто… нет! Это они пошутили, бессвязно мелькали мысли в отуманенной голове старика. И он вдруг рассмеялся каким-то странным, детски нервным смехом, в котором слышались слезы, отворяя беззубый рот и захлебываясь, как грудной ребенок.
– Пошутить изволили, ваше сиятельство? – упавшим голосом сказал он, отдавая деньги Изметьеву.
Василий Сергеевич почувствовал, что у него как будто внутри похолодело и что-то сдавило горло, когда он услыхал этот смех старого шарманщика. Он рассердился.
– Да нет же, братец!.. Разве так шутят?.. Бери, бери, твои деньги, сказал – Санькины… Да бери же, старый дурак, чорт тебя возьми, когда дают!..
Шарманщик поверил наконец. Как сноп повалился он в ноги Василию Сергеевичу и разрыдался. Потом вскочил и, как сумасшедший, не говоря ни слова, опрометью выбежал из квартиры Изметьева. Дверь осталась отворенною; про шарманку свою он забыл.
Василий Сергеевич подошел к окну и прислонился горячим лбом к зеркальному стеклу. Улица была залита газом. Сквозь легкий, жидкий туман ясно видна была вся уличная суматоха и яркие товары, выставленные в магазинах на той стороне, и снующие, мелькающие быстро фонари экипажей; сквозь шум и гул толпы, топот лошадей, стук и скрип колес и полозьев резко слышны были молодецкие оклики барских кучеров, звонки конки, свистки городовых. Василий Сергеевич видел, как из его подъезда выбежал старик, нахлобучивая свою рваную шапку, как он быстрыми, неровными шагами, пошатываясь, переходил улицу; вот прямо на него несется карета. «Как это он не видит? Куда он, дурак, лезет на рельсы, когда конка в двух шагах… Нет, перешел. Сейчас доберется до той стороны… вот поскользнулся… Упал… Поднимается с трудом… Где он? Куда же он девался? Его не видать?..» У Василия Сергеевича дух замер, сердце сжалось. Да. Точно. До него ясно доносятся крики: «Держи! Стой! Задавили! Держи!» И какой-то особенно зловещий, назойливый свисток. На той стороне столпилась и галдит, размахивая руками, все наростающая серая кучка прохожих. Василий Сергеевич вздрогнул, закрыл глаза и бессильно опустился на кресло у окна.
III
Квартира прачки Пелагеи Григорьевны прибрана к празднику: поденщицы ушли; не видно никаких следов ее ремесла. Она большую квартиру занимает, хорошую: три комнаты и кухня, выход, для провизии чулан, все хозяйственно так; правда, в подвальном этаже, за то – простор; и дрова хозяйские – это тоже расчет. Как во двор войдешь, сейчас направо три ступеньки вниз – ход в сенцы; еще три ступеньки вниз – кухня; на полках посуда вся чистая; самовара два, как жар горят; плита – это загляденье, хоть танцуй на ней, хоть двадцать утюгов за раз греться поставь. А рядом – большая комната, три окна на улицу, три других в переулок выходят, весело так; и цветы на всех окнах; Пелагея Григорьевна охотница до них, до цветов: сама разводит из черенков и отростков – любит, как детей родных. Стол, что для глаженья, обитый войлоком и полотном, прикрыт, ради праздника, цветною скатертью; керосиновая лампочка зажжена; в красном углу перед образами лампадка теплится; над комодом портреты царя с царицей и картина страшного суда; на кровати новое одеяло из пестрых ситцевых лоскутков и пять подушек в белых наволочках, чуть не до потолка взбиты; рядом угол ширмочкой загорожен, устроена спальня для больной Саньки, – «Санькин будувар» – называет этот угол Пелагея Григорьевна; постель для девочки улажена на двух опрокинутых ящиках из-под мыла, но тоже чистая, с белою подушкой. Две остальные комнаты жильцы снимают; и не нахвалится ими хозяйка: смирные, работящие, веселые. «Каков поп, таков приход», хвастается, шутит Пелагея Григорьевна. Трое их: студент Яков Егорыч да две швейки – родные сестры; старшая Дуняша – горбатенькая работу на дом берет, а меньшая Танюшка – быстроглазая, мастерица-корсажница, работает поденно в большом магазине; и обе получают хорошие деньги, за квартиру верно платят. Вот Яков Егорович, – есть тот грех, – иной раз и затянет – пропустит срок; так ведь за то какой человек, – золото – одно слово; чего-чего он не знает? чего не умеет? Он тебе и доктор, и столяр, и слесарь; и цветы знает какие когда пересаживать, и чем какие пятна с белья выводить, и чем тараканов травить; и на гитаре какую хотите песню, только назовите, сейчас сыграет; а голос?.. Да за один голос Пелагея Григорьевна тотова его даром на квартире держать. Уж такой простой и не гордый, совсем не видать даже, что «благородный». Одно только боится Пелагея Григорьевна: как бы с Таней у них чего глупого, по соседству, не вышло. Да и то, нечего в их дела мешаться; такой человек девушки не обманет. И вот уж пара!
Пелагея Григорьевна еще не вернулась от всенощной. Санька у себя «в будуваре» сидит одна на постельке, в белой бумазейной кофточке, ноги покрыты старой теплой шалью Пелагеи Григорьевны; темные кудри девочки были недавно острижены под гребенку; она еще очень слаба, худа и бледна, а все-таки прехорошенькая: глаза такие большие, умные; она играет в тряпичных куколок; много ей их во время болезни нашила горбатенькая Дуняша, а Яков Егорович и лица красками расписал; одна кукла так даже с волосами: из Санькиных кудрей парик сделан; мастерица эта горбатенькая кукол наряжать: и чубчик на лбу завитой, и коса заплетается! Девочка скоро-скоро, шопотом разговаривает одна, за ширмами, словно бредит, и поет польки и вальсы; это куклы ее «будто нарочно» ссорятся, мирятся, в гости ходят, поют, пляшут; она так увлеклась игрой, что и не слышит, что делается в комнате портних рядом; оттуда доносится смех, возня, шушуканье; это Дуняша с самого утра хлопочет: затеяла «сделать Саньке суприз»; больная девочка намедни жалко так ей сказала:
– Прошлый год в сочельник мы с дедушкой под окнами стояли, смотрели, как у господ елки зажигаются, а теперь и не увижу я ничего!
Баловщица Дуняша тогда же решила: «беспременно будет елка у нашей Саньки!» и своих собственных 50 копеек не пожалела: купила золотой бумаги, пряников, леденцов, – всего понемножку; а Якой Егорович и деревцо небольшое откуда-то из-за города приволок; сам срезал, в сугробе калошу потерял. Да такая неловкая попалась елочка, никак ее не приладишь – все валится. Дуняша и Таня пробуют ее веревкой к табуретке привязать и гвоздиками прибить, – валится да и только; вот Яков Егорыч сейчас бы приладил, да он у себя в комнате заперся, книжку читает, – мешать ему нельзя.
– Ну, вот еще церемонии! Постучим ему в стенку! – шушукает быстроглазая Таня.
– Нельзя, учится он – еще рассердится!..
– И так уж учен! Да и самому, поди, смерть хочется к нам, только того и ждет, чтобы позвали!
И Таня принялась усердно барабанить в стенку. Ее лукавая улыбка и смеющиеся карие глаза говорили: «не рассердится, небось, прибежит!» Она угадала. Яков Егорыч сейчас прибежал, веселый, приветливый – как всегда: мигом оглянув неуспешную работу соседок, он рассмеялся и неодобрительно покачал кудрявой русой головой.
– Эх, вы! Слабость!.. Чего сделать не сумели. А еще мастерицами называются?.. Пустите-ка меня!..
– Да уж мы путали-путали – все без толку. Такая несуразная, капризная ваша елка…
– А вот она у меня сейчас шелковая будет – послушается. Я такое слово знаю.
– Расхвастался: наше дело ребячье – щенка подковать, – поддразнивала его Таня.
– Извольте любоваться: раз, два! Готово! Без всяких препираний!..
Капризная елочка в ловких руках Якова Егорыча тотчас действительно послушалась и встала на табуретке как вкопанная. Дуняша принялась украшать ее цепями из золотой бумаги и развешивать гостинцы, а Яков Егорыч, за ее спиной, шепнул Тане: «на чаек бы с вашей милости?» и быстро, на лету поцеловал ее в розовую щеку.
– Не жирно ли будет, господин доктор, за всякую малость да на чаек? – обернулась, смеясь, горбатенькая, услыша звук поцелуя; шла бы ты лучше, Танюшка, самовар ставить: старуха наша сейчас вернется, да и соседа угостим.
Таня побежала в кухню и господин доктор за ней следом – самовар раздувать и еще раз за работу «на чаек» получить.
«Ишь ведь!.. Словно пришит он к Танюшке моей. Уж так любит, так любит… Дай Бог им счастья!» – подумала Дуняша и тяжело вздохнула.
Пелагея Григорьевна пришла. Сидит за столом светлая, ласковая, праздничная. «Бог милости прислал», говорит ее старое, но свежее лицо, с веселыми и добрыми морщинами. И весь ее приход в сборе; даже Санька, с разрешения Якова Егорыча, выползла, пошатываясь, как осенняя муха, из своего будуара, вся беленькая, в своей бумазейной кофте и старой ситцевой юбке. «А как она выросла за месяц! Смотрите-ка как вытянулась! Юбченка-то, юбченка, – чуть не по колено стала!» удивляются все.
На столе кипит самовар. Григорьевна угощает постным пирогом и кутьей со взваром. Даже и водочки припасена небольшая посудинка. Это для кума Сидора Иваныча.
– Сегодня и ему – разрешение вина и елея будет!.. Да. что ж это он не идет? Куда запропастился? – беспокоится Пелагея Григорьевна. – Собирался со мной ко всенощной, как и путный… А вместо того – на-ка тебе, – и до сих пор нет!..
Всем пришло в голову: не случилось ли что со стариком? Да никто этого не сказал, чтоб не расплакалась Санька; а Санька думала, что дедушка в кабак зашел погреться да и засиделся; но тоже не говорила об этом, – выдать дедушку не хотела.
– Он, бабушка Григорьевна, теперь в окошки смотрит, – придумала она сказать в защиту старика – и хитро улыбнулась.
– В какие окошки?
– А там, у господ елки зажигаются… Хорошо так!.. Мы с ним, и в прошлом и в позапрошлом годе смотрели… Вот потухнут елки, – он придет!
Дуняша вспомнила про «суприз» и шопотом, по секрету, просила у Григорьевны позволение зажечь елку.
– Что ты, что ты, матушка, нельзя, – грех сегодня!
Яков Егорович, догадавшись, о чем они говорят, вступился:
– Никакого греха тут нет, Пелагея Григорьевна, матушка… у всех…
– У кого это у всех? У господ? – горячо перебила Григорьевна. – Так ведь они, милый, онемечились; у них все можно, все не грех, – а по-нашему, по-православному…
Спор был прерван сильным стуком в сенцах.
– Ну, слава Богу, вот и старик пришел! – Григорьевна засуетилась и побежала отворять.
– Ползи, ползи! Где это пропадал? – спросила она, впуская кума; да глянула на него и испугалась, – побелела как тряпка.
Правый глаз у старика был подбит, и щека вся и синяя; лоб под шапкой платком повязан и платок – в крови. Григорьевна ахнула.
– Что это с тобой?.. Мать Пресвятая Богородица, Господи Иисусе!..
– Ничего, кума!.. Упал… Зашибся маленько… Уж прошло…
Он снял шапку, стащил платок; на лбу была запекшаяся кровь.
– Где Санька?.. Как бы не испужалась?.. – сказал он озабоченным шопотом и присел в кухне на лавочке.
Но Санька уж шла, пошатываясь, ему на встречу и издали кричала звонким голоском:
– Дедушка пришел, – пряников принес!.. Принес, дедушка?..
Но увидев кровь и синяки, она дико вскрикнула, бросилась к старику, крепко обняла его худенькими ручонками и разрыдалась, спрашивая:
– Кто это тебя, дедушка? Кто-о-о?
Она была уверена, что дедушку побили в кабаке; от него и вином пахнет.
Старик посадил девочку к себе на колени и всячески старался ее успокоить; и по головке ее гладил, и уговаривал, и целовал.
– Да никто, милушка, – перестань! Сам я, старый пес, поскользнулся. Да уж и прошло все, не плачь, деточка, не плачь, родная; гляди, – я смеюсь!..
Но девочка продолжала истерически рыдать, и Дуняша принялась ее водой отпаивать.
Все всполошились, окружили Сидора Иваныча и наперерыв расспрашивали его. Яков Егорович стал вдруг такой бледный и строгий; отстранил женщин и внимательно, заботливо оглядел и ощупал голову старика; на лбу оказалась только ссадина, на щеке – подтек кровяной; глаз целехонек; кости тоже.
Яков Егорович опять повеселел.
– Пустяки, дедушка!.. Не плачь, Саня! До твоей свадьбы заживет!
– До моей свадьбы долго ждать!.. – всхлипывала девочка.
– Ну, до моей, моя скоро!.. – и он мигнул испуганной Танюше.
Все успокоились и повеселели.
Уж если Яков Егорыч сказал – «пустяки», стало-быть – правда.
– А пряники принес, дедушка?.. – спросила Санька, утирая последние слезы рукавом кофты.
– Принес, как же, принес!.. Да я и еще что-то принес… Патрет, Саня, – картинку!.. Барин добрый тебе прислал… Пойдем туда, к свету, покажу… Вот она – картинка, – в шапке у меня!..
Он перешел в большую комнату и уселся на лавке у стола, против самой лампы. Лицо его так и горело с морозу и сияло радостью, несмотря на синяки.
Все опять его окружили.
– Ну, картинку успеешь показать, дедушка, а теперь надо бы поскорей компрессы холодные! – сказал Яков Егорович.
– Да вы посмотрите-ка, барин, какая картинка, тогда и говорите!.. Лучше всякого компресса она у меня… Исцелительная! – рассмеялся старик.
Потом узловатыми пальцами пошарил в рваной ваточной подкладке шапки, достал сторублевую бумажку, развернул ее, разгладил на столе и поднес к лампе, оглядывая всех с торжествующей улыбкой на обезображенном лице.
– Какова?!
Эффект был полный.
Все примолкли, словно обомлели; одна Санька была недовольна и разочарована; она успела вообразить себе присланную барином картинку совсем не такою, а гораздо-гораздо лучше и ярче.
– Нашел?.. – спросила наконец Григорьевна.
У нее было мелькнула в голове другая мысль: «украл!» Да она тотчас спохватилась: «Согрешила я на кума, прости Господи! Не такой он человек, чтоб…»
– Объявить надо, коли нашел, – прибавила она; – третью часть получишь от хозяина – твое счастье!
Все заговорили в один голос:
– Мудрено получить – в участке застрянет!
– Плачет теперь, поди, хозяин-то, кто потерял…
– А нешто беспременно надо объявить?
– Жаль, небось, будет, Иваныч, в участок ее несть?
Сидор Иваныч послушал, послушал, да и закатился своим детским смехом.
– За какие-такие провинности ее, матушку, да в участок? Ха-ха-ха!.. Наша она! Наша, с Санькой! Нам знакомый барин подарил. Взял, да и подарил! «На елку, говорит, Саньке». Вот какая оказия!..
И старик, путаясь и привирая, начал рассказывать все случившееся с ним подробно, смутно, как будто припоминая виденный сон; у него выходило теперь: что зазвал его к себе один добреющий старый барин, давно знакомый, Изметьев, Василий Сергеевич. «Ну, вот тот самый Изметьев, что еще до „воли“ у господ, у Тагариновых в Никольском дневал и ночевал; а я им завсегда служил и во всем потрафлял. Молоденькие они тогда были – лет двадцати-пяти. Я их было и не признал сразу. А они мою службу вот как помнят. Каково это! Столько лет… Любят они меня страсть, и даже забыть никогда не могут… И сейчас, как увидали это, признали, обрадовались, зазвали, за стол с собой – вот с места не сойти – посадили!..» Далее пошло бессвязное описание великолепия Изметьевской квартиры, кушаньев, вин; поминались и «аранжамеровая», и «суп пюре» и всякие барские сласти, какими (ему теперь казалось) угощал его барин; не забыта была и «хозяйка – ихняя супруга», что входила в столовую, пышная такая и красавица, да только гордая больно, строгая дама, характерная, – не в мужа.
– Да ты, Иваныч, не томи! Скажи скорей, с чего ж это он тебе сто рублев-то сразу отвалил? За что? – перебила Григорьевна.
Этот вопрос немного озадачил Сидора Иваныча. Он и сам себе до сих пор не мог объяснить, «с чего» и «за что».
– А так, стало-быть, захотел и отвалил! Известно – барин, настоящий. Ему сто рублев-то что? Тьфу!.. За старую тебе, говорит, братец, службу; Саньке, говорит, твоей от меня на елку… Чтобы она, гыт, за меня век Богу молилась, говорит, – старался старик припомнить подлинные слова барина.
– Для спасение души, значит, доброе дело ради праздника сделал! – объяснила Григорьевна.
А Сидор Иваныч продолжал:
– И приведи, говорит, братец, девчонку ко мне, и сам приходи, когда хочешь! Завсегда ты, говорит, Иваныч, у меня первый гость будешь! Так и сказал – первый гость.
– Так и сказал? – умилилась Григорьевна и вытерла концом шейного платка набежавшую слезу. – Ну, дай ему, Господи, доброго здоровья, родителям его царство небесное! То-то, вишь, свет-то не без добрых людей!
– Дедушка! а, дедушка! А где же наша шарманка? – спросила Саня.
Тут только вспомнил старик, что оставил шарманку в швейцарской; он по этому поводу опять вернулся к рассказу, чуть не сначала повторил все с новыми вариантами и про то, как упал и разбился, прибавил подробности:
– Чисто Бог спас. Бегу я это, через улицу, как шальной… Ничего не вижу, не слышу… Помню только одно – какая картинка у меня в шапке для Саньки запрятана. Тороплюсь… в голове шумит… Только и оскользнись я – упал; поднимаюсь это на ноги вот этаким манером, а лошадь какая-то окаянная, прости Господи, как саданет меня плечом. Я опять оземь. И свету не взвидел, матушки мои, искры из глаз… А там и не знаю… Очнулся, а меня уже собрались было в участок тащить, думали помер. Я первым долгом шапки хватился: где моя шапка? говорю. Подали мне ее – цела, слава Богу, – тут же рядом в снегу валялась. Никто и не знал, что в ней!.. А народищу страсть!.. Ну, взмолился я господину околоточному: отпустите, мол, ваше благородие. Так и так, говорю, праздник, внучка там у меня! Ничего, отпустил. «Коли, говорит, поврежденьев нет, так и ступай себе с Богом!»
Яков Егорович, во время этого рассказа, ходил быстро взад и вперед по комнате и нервно подергивал русые усы.
– Ну, будет вам расписывать, дедушка. Пойдем-ка ко мне голову чинить!
И он повел старика под руку в свою комнату.
– Дедушка! постой! – закричала Саня, тормоша Сидора Иваныча за рукав. – А пряники-то мои?.. сказал, что принес?..
– Принес, детка, как же, принес и пряники!.. Старик полез за пазуху и вынул оттуда пряничного офицера и девицу с барашком.
– Вот они, милая, и не сломались… Пятак пара – дорогие!.. А пятак этот счастливый был – барыня одна мне бросила. С ее легкой руки меня и Василий Сергеевич зазвал… Да!.. Такая хорошая тоже барыня… Своим деткам игрушки везла и мою вот Саньку ублаготворила!
Яков Егорович его увел.
– Да, много добрых людей у Бога на свете, много! – сказала Григорьевна. – Слава Тебе, Господи!.. – вздохнула и перекрестилась она, глядя на образа своими светлыми, честными глазами.