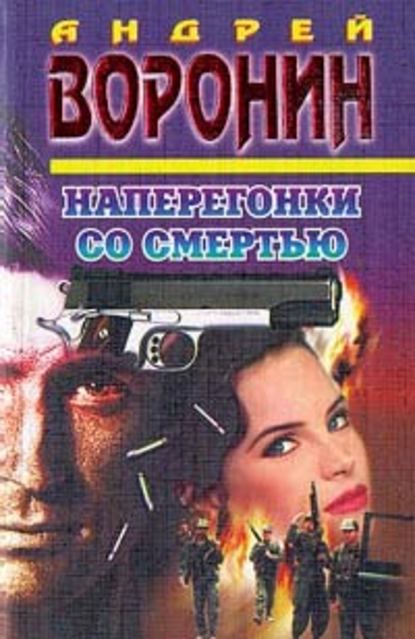По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Наперегонки со смертью
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Он на ходу?
– Так точно. Оторвано колесо.
– Понял. Продолжайте выполнение боевого задания. Вам на помощь вышел уже твой третий взвод...
Комбат отбросил официальный тон и закончил уже совсем ласково, по-отечески:
– Сашка, милый, держись. Колонна на подходе!.. За ранеными в установленный квадрат я пришлю вертолет, ты не беспокойся. Так надо, Саша...
– Востряков ранен...
– Олег? Сильно?
– Не знаю еще, товарищ подполковник.
– Высылаю "вертушку". Держитесь, ребята! – И рация щелкнула, отключаясь...
Стратегическую высоту они заняли без проблем, не встретив больше ни одного "духа".
Из бэтээров бойцы вынесли убитых и раненых.
Пятерых парней положили отдельно, голубыми беретами прикрыв им лица. Почти все они были из первого отделения и погибли сразу при взрыве мины.
Банда построил остатки взводов, и гулким эхом пронесся по горам залп их прощального салюта.
Шестеро раненых лежали в тени одного из бронетранспортеров. Их уже успели осмотреть и на скорую руку перевязать. К счастью, ранения почти у всех были не слишком тяжелыми.
Только Корнеев, водитель востряковского бэтээра, которого взводный выбросил из машины сразу после взрыва, был не перевязан: у парня действительно не было ни царапины, но мощный взрыв контузил его, полностью лишив слуха. Он сидел, привалившись к колесу бэтээра спиной, и крутил головой, бессмысленно ворочая глазами и раз за разом что-то выкрикивая. Кто-то, кажется, Анушидзе, опустился на колени рядом с ним, заговаривая и пытаясь его успокоить.
Больше других досталось Вострякову. Его тоже контузило, голова была разбита, к тому же он получил огнестрельное ранение грудной клетки. Оказалось, ко всему, что когда Банда вытягивал его, Олег уже начинал гореть, и его босые ноги теперь до колен были забинтованы.
Сашка сел рядом с ним, Востряков был в сознании, и его голубые глаза с благодарностью смотрели на Сашку. Хриплое дыхание вырывалось из груди, и судорога боли то и дело пробегала по его лицу.
– Сашка... – с трудом выговорил взводный.
– Молчи, Олежка, молчи! – Банда успокаивающе погладил Вострякова по руке. – Тебе сейчас никак нельзя говорить. Экономь силы.
– Я... не слышу... тебя... Но ты... послушай...
– Да помолчи ты лучше! – приказал Банда, прикладывая палец к губам.
Востряков через силу отрицательно мотанул головой, прося Бондаровича выслушать.
– Банда, я знаю... ты спас... никогда... не забуду... друг... никогда... слышь? – часто останавливаясь, проговорил раненый. – Жив если буду... И ты если... Всегда ко мне... в Сарны...
Силы, видимо, окончательно покинули парня, и взводный замолк, закрыв глаза и застонав от боли...
Банда обошел занятый его подчиненными рубеж, проверяя, скорее по привычке, чем по необходимости, как подготовились к отражению возможных внезапных нападений "духов" бойцы его роты.
Все было сделано четко, грамотно и аккуратно.
Даже старший сержант Анушидзе, взявший теперь, после ранения Вострякова, на себя командование первым взводом, отлично справился с задачей, правильно определив позиции дозорных, линии огня для каждого отделения и бэтээра.
Теперь солдаты востряковского взвода развалились, покуривая, в тени своих бронетранспортеров.
Банда сел вместе с ними, зажег сигарету и затянулся.
А потом он почувствовал что-то неладное – все курили молча, не произнося ни звука: не вспоминая бой, не подшучивая над "молодыми".
Сначала ротный решил, что это молчание – как память о погибших, как подсознательное чувство вины перед ранеными товарищами. Но по напряжению, которое буквально физически висело в воздухе, по взглядам, периодически бросаемым на спину сидевшего в отдалении Бурсака, Банда понял, что ребятам известно все – как трусливо прятался от пуль в брюхе бэтээра Бурсак, как сидел он рядом с истекающим кровью Олегом, бросив автомат и прикрыв голову руками, а потом, после того, как Сашка выгнал его из машины, убежал в другой бэтээр, невзирая на бой, на раненых и убитых товарищей, которых Анушидзе со своими бойцами эвакуировал из-под огня.
Бурсак теперь тоже молчал, ежась под взглядами ребят и поминутно меняя позу, как будто не в силах устроиться поудобнее.
И первым не выдержал молчания именно он:
– Ну что вы на меня все смотрите?! Ну да, не полез я под пули! Я дембель! Мне домой завтра! Не хочу я больше, ясно? Надоело мне! Я жить хочу!
Он кричал надрывно, страшно, стоя на коленях и повернувшись к своему взводу, и лицо его исказила ужасная гримаса.
А ребята все так же молчали, отводя глаза от труса, теперь уже как будто вообще не замечая его присутствия.
– Мужики, ну в самом деле! – сменил вдруг тон Бурсак, уже не огрызаясь, а будто уговаривая их. – Я же с вами служил столько месяцев... Я же не был трусом никогда, вы же знаете... Просто не понимаю, что на меня вдруг нашло...
Но видя, что ребята не реагируют на его слезливые увещевания, он снова сорвался на крик:
– Ну расстреляйте меня! Пусть сегодня в нашей роте еще одним трупом больше станет!
Банда заметил, как вдруг разом потемнели и без того черные глаза Анушидзе. Яростно сверкнув белками, грузин вскочил и гортанно, с сильнейшим акцентом, который всегда выдавал в его голосе ужасное волнение, с жуткой ненавистью оборвал излияния труса:
– Слышь, заткнись, а? Еще слово скажешь – убью! Панимаешь, а? Засунь свой паганый язык в жопа, понял, а?
Бурсак осекся на полуслове, а потом упал лицом в землю, громко и горько расплакавшись...
...А Востряков нашел Банду, прислав из госпиталя письмо. Одно, второе, третье... Они часто переписывались, пока Сашка еще служил в армии.
Олега списали, отправили в отставку. Для строевой службы после ранения он не годился уже надолго, да и сам Востряков особого желания служить уже не испытывал.
Он уехал к себе домой, к матери, в маленький районный городок Сарны, где в доме на зеленой тенистой улочке начал новую мирную жизнь.
Олег часто и настойчиво звал Сашку к себе. Он знал, что Банда сирота, и готов был помочь всем, чем только сможет, чтобы его ротный вписался в цивильную жизнь.
Сашка и сам часто подумывал уехать к Вострякову, но жизнь закрутила его, завертела так, как не мог и представить в Афгане никто из них...
* * *
Здесь непонятно,
Где лицо, а где
– Так точно. Оторвано колесо.
– Понял. Продолжайте выполнение боевого задания. Вам на помощь вышел уже твой третий взвод...
Комбат отбросил официальный тон и закончил уже совсем ласково, по-отечески:
– Сашка, милый, держись. Колонна на подходе!.. За ранеными в установленный квадрат я пришлю вертолет, ты не беспокойся. Так надо, Саша...
– Востряков ранен...
– Олег? Сильно?
– Не знаю еще, товарищ подполковник.
– Высылаю "вертушку". Держитесь, ребята! – И рация щелкнула, отключаясь...
Стратегическую высоту они заняли без проблем, не встретив больше ни одного "духа".
Из бэтээров бойцы вынесли убитых и раненых.
Пятерых парней положили отдельно, голубыми беретами прикрыв им лица. Почти все они были из первого отделения и погибли сразу при взрыве мины.
Банда построил остатки взводов, и гулким эхом пронесся по горам залп их прощального салюта.
Шестеро раненых лежали в тени одного из бронетранспортеров. Их уже успели осмотреть и на скорую руку перевязать. К счастью, ранения почти у всех были не слишком тяжелыми.
Только Корнеев, водитель востряковского бэтээра, которого взводный выбросил из машины сразу после взрыва, был не перевязан: у парня действительно не было ни царапины, но мощный взрыв контузил его, полностью лишив слуха. Он сидел, привалившись к колесу бэтээра спиной, и крутил головой, бессмысленно ворочая глазами и раз за разом что-то выкрикивая. Кто-то, кажется, Анушидзе, опустился на колени рядом с ним, заговаривая и пытаясь его успокоить.
Больше других досталось Вострякову. Его тоже контузило, голова была разбита, к тому же он получил огнестрельное ранение грудной клетки. Оказалось, ко всему, что когда Банда вытягивал его, Олег уже начинал гореть, и его босые ноги теперь до колен были забинтованы.
Сашка сел рядом с ним, Востряков был в сознании, и его голубые глаза с благодарностью смотрели на Сашку. Хриплое дыхание вырывалось из груди, и судорога боли то и дело пробегала по его лицу.
– Сашка... – с трудом выговорил взводный.
– Молчи, Олежка, молчи! – Банда успокаивающе погладил Вострякова по руке. – Тебе сейчас никак нельзя говорить. Экономь силы.
– Я... не слышу... тебя... Но ты... послушай...
– Да помолчи ты лучше! – приказал Банда, прикладывая палец к губам.
Востряков через силу отрицательно мотанул головой, прося Бондаровича выслушать.
– Банда, я знаю... ты спас... никогда... не забуду... друг... никогда... слышь? – часто останавливаясь, проговорил раненый. – Жив если буду... И ты если... Всегда ко мне... в Сарны...
Силы, видимо, окончательно покинули парня, и взводный замолк, закрыв глаза и застонав от боли...
Банда обошел занятый его подчиненными рубеж, проверяя, скорее по привычке, чем по необходимости, как подготовились к отражению возможных внезапных нападений "духов" бойцы его роты.
Все было сделано четко, грамотно и аккуратно.
Даже старший сержант Анушидзе, взявший теперь, после ранения Вострякова, на себя командование первым взводом, отлично справился с задачей, правильно определив позиции дозорных, линии огня для каждого отделения и бэтээра.
Теперь солдаты востряковского взвода развалились, покуривая, в тени своих бронетранспортеров.
Банда сел вместе с ними, зажег сигарету и затянулся.
А потом он почувствовал что-то неладное – все курили молча, не произнося ни звука: не вспоминая бой, не подшучивая над "молодыми".
Сначала ротный решил, что это молчание – как память о погибших, как подсознательное чувство вины перед ранеными товарищами. Но по напряжению, которое буквально физически висело в воздухе, по взглядам, периодически бросаемым на спину сидевшего в отдалении Бурсака, Банда понял, что ребятам известно все – как трусливо прятался от пуль в брюхе бэтээра Бурсак, как сидел он рядом с истекающим кровью Олегом, бросив автомат и прикрыв голову руками, а потом, после того, как Сашка выгнал его из машины, убежал в другой бэтээр, невзирая на бой, на раненых и убитых товарищей, которых Анушидзе со своими бойцами эвакуировал из-под огня.
Бурсак теперь тоже молчал, ежась под взглядами ребят и поминутно меняя позу, как будто не в силах устроиться поудобнее.
И первым не выдержал молчания именно он:
– Ну что вы на меня все смотрите?! Ну да, не полез я под пули! Я дембель! Мне домой завтра! Не хочу я больше, ясно? Надоело мне! Я жить хочу!
Он кричал надрывно, страшно, стоя на коленях и повернувшись к своему взводу, и лицо его исказила ужасная гримаса.
А ребята все так же молчали, отводя глаза от труса, теперь уже как будто вообще не замечая его присутствия.
– Мужики, ну в самом деле! – сменил вдруг тон Бурсак, уже не огрызаясь, а будто уговаривая их. – Я же с вами служил столько месяцев... Я же не был трусом никогда, вы же знаете... Просто не понимаю, что на меня вдруг нашло...
Но видя, что ребята не реагируют на его слезливые увещевания, он снова сорвался на крик:
– Ну расстреляйте меня! Пусть сегодня в нашей роте еще одним трупом больше станет!
Банда заметил, как вдруг разом потемнели и без того черные глаза Анушидзе. Яростно сверкнув белками, грузин вскочил и гортанно, с сильнейшим акцентом, который всегда выдавал в его голосе ужасное волнение, с жуткой ненавистью оборвал излияния труса:
– Слышь, заткнись, а? Еще слово скажешь – убью! Панимаешь, а? Засунь свой паганый язык в жопа, понял, а?
Бурсак осекся на полуслове, а потом упал лицом в землю, громко и горько расплакавшись...
...А Востряков нашел Банду, прислав из госпиталя письмо. Одно, второе, третье... Они часто переписывались, пока Сашка еще служил в армии.
Олега списали, отправили в отставку. Для строевой службы после ранения он не годился уже надолго, да и сам Востряков особого желания служить уже не испытывал.
Он уехал к себе домой, к матери, в маленький районный городок Сарны, где в доме на зеленой тенистой улочке начал новую мирную жизнь.
Олег часто и настойчиво звал Сашку к себе. Он знал, что Банда сирота, и готов был помочь всем, чем только сможет, чтобы его ротный вписался в цивильную жизнь.
Сашка и сам часто подумывал уехать к Вострякову, но жизнь закрутила его, завертела так, как не мог и представить в Афгане никто из них...
* * *
Здесь непонятно,
Где лицо, а где