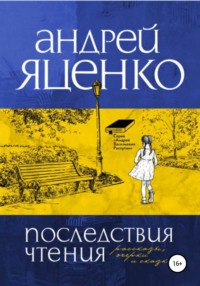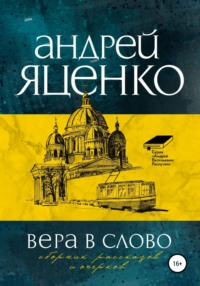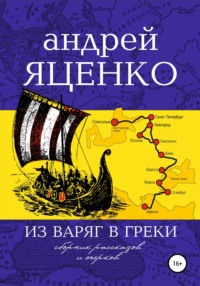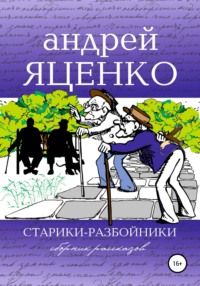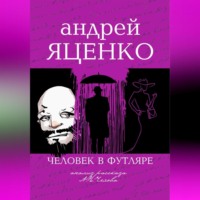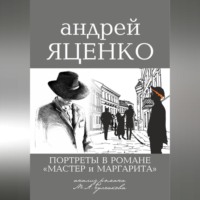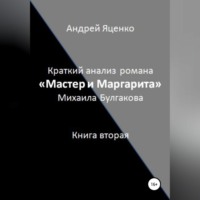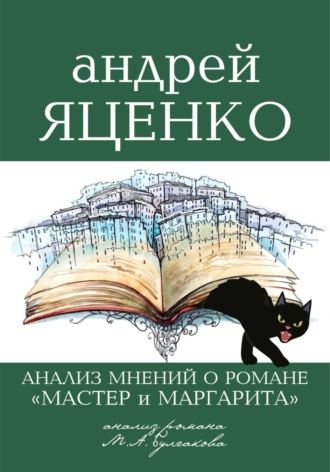
«Анализ мнений о романе „Мастер и Маргарита“ Михаила Булгакова»
Восприятие образа Иешуа
Уже в первом же высказывании автор учебника допускает неточность: «Тема власти и насилия имеет в романе всеобщий характер». Как уже раньше утверждалось, в сюжете присутствуют три пласта времени: библейское, современное и Вечность. Следовательно, чтобы согласиться с заявлением о всеобщем характере власти и насилия, они должны быть отражены в романе во все времена. Правда, вначале следует определиться с понятиями, что такое власть и что такое насилие. Обычно под первым подразумевают государство и его органы, а под вторым – применение ими силы на основе законов к лицам, совершившим правонарушения. Если автор учебника имел в виду другое, это следовало указать.
Да, в библейское время, в эпизоде разговора Иешуа и Понтия Пилата тема власти и насилия присутствует. Прокуратор – представитель Римского государства, поэтому он обладает властью и может законно творить насилие. Но в современное время мастер только один раз сталкивается с представителями органов. Да, его по ложному доносу арестовывают, но, разобравшись, затем отпускают. Так что никакого насилия со стороны органов власти в современное время над мастером не совершалось. В отношении других героев романа органы власти действуют также корректно и никакого насилия не осуществляют. Правда, сотрудники неоднократно пытались выявить и задержать «группу Воланда», даже с применением оружия. Но банда ведь подозревалась в совершении множества правонарушений. И, наконец, в «Вечности» Воланд творит насилие (от выселения Степана Лиходеева до убийства мастера и Маргариты), но князь тьмы не относится ни к какому органу власти и ни к государству в целом.
Таким образом, тема власти и насилия имеет в романе отнюдь не всеобщий характер, а локальный, т.е. в библейское время.
Далее, автор учебника верно указывает, что «в образе Иешуа прослеживается прямая аналогия с Христом. Однако Иешуа 27 лет, а не 33, как Христу, его убеждения отличаются от признанных церковью каноническими». К сожалению, из этого сравнения далее не задаются ясно вытекающие вопросы. Об Иешуа мы узнаем вначале из рассказа Воланда. И дьявол желает, чтобы собеседники поверили, что Иисус существует. Но вот такой – в образе Иешуа. Зачем? В чем здесь выгода для сатаны?
Вместо закономерного вопроса автор учебника славословит Иешуа. Га-Ноцри «ищущий справедливости, страдающий, высокий духом, честный и неподкупный, мученик, отдающий жизнь за торжество общечеловеческих идеалов». «В истории человечества не раз появлялись люди, призывавшие жить по законам добра и справедливости, но еще ни одному из них не удалось достучаться до людей, изменить существующий порядок». В этом панегирике (ораторская речь хвалебного содержания) мы насчитали четыре ошибки.
Во-первых, высокий духом. Для подобных людей обычно не присущ «главный грех», по мнению Га-Ноцри, – трусость. «– А ты бы меня отпустил, игемон, – неожиданно попросил арестант, и голос его стал тревожен, – я вижу, что меня хотят убить.» Высокий духом не желает угождать власти. «– Мое? – торопливо отозвался арестованный, всем существом выражая готовность отвечать толково, не вызывать более гнева.» (Глава 2 «Понтий Пилат»)
Во-вторых, неподкупный. Как можно это утверждать, если Иешуа никто не предлагал денег за отказ от его взглядов?
В-третьих, мученик, отдающий жизнь за торжество общечеловеческих идеалов. В романе Иешуа не желал становиться мучеником. Будь его воля, он избежал бы этого «высокого звания». «– А ты бы меня отпустил, игемон, – неожиданно попросил арестант, и голос его стал тревожен, – я вижу, что меня хотят убить.» (Глава 2 «Понтий Пилат»)
В-четвертых, никому не удалось изменить существующий порядок. Мы можем с ходу назвать трех: Будду, Иисуса и Мухаммеда. Они не только призывали жить по законам добра и справедливости, но и изменили людей, принявших их религию: буддизм, христианство и ислам.
Таким образом, фигура Иешуа безосновательно возвеличивается автором учебника до уровня Иисуса Христа.
Сравнение образов Иешуа и Понтия Пилата
Автор учебника использует прием сравнения героев и это следует рассматривать как положительный момент, с точки зрения науки. Главное, чтобы сопоставление не было фантастическим.
Э.В.Чумакевич смотрит и оценивает Иешуа глазами Понтия Пилата. Этим приемом достигается сравнение обоих героев романа. Правда, здесь, кроме первого сравнения, что ни предложение, то ошибка.
«В споре Иешуа с Понтием Пилатом происходит столкновение двух мировоззрений. Иешуа утверждает, что люди от рождения добры, что настанет время, когда отношения между ними будут строиться на принципах справедливости и гуманизма». Понтий Пилат же, умудренный опытом, не питает иллюзий по поводу возможности изменения общественного устройства».
«Прокуратор Иудеи – человек, наделенный большой властью. Он служит кесарю, но в душе понимает всю несправедливость существующих порядков». Подобных мыслей в голове прокуратора не было. Желающие удостовериться, могут прочитать вторую главу романа.
«Как результат внутренней раздвоенности – страшная головная боль, не отпускающая Пилата, уже наказанного за то, что ради сохранения должности он вынужден вершить несправедливость». Во-первых, в этом высказывании причина и последствие ошибочно переставлены местами. Сначала у прокуратора разболелась голова, а уже потом к нему привели на суд Иешуа Га-Ноцри. Во-вторых, никакой раздвоенностью Пилат не страдал. Эта фантазия автора учебника. В-третьих, в романе четко указывается, что нарушил бродячий философ: «Закон об оскорблении величества…», поэтому прокуратор вынес приговор по закону. А насколько законы соотносятся с правом – это уже вопрос вузовского предмета «философии права», который преподается на последнем курсе юридического факультета, правда, не во всех вузах.
«С тревогой смотрит прокуратор на приведенного к нему на допрос Иешуа, который по доносу «подговаривал народ разрушить ершалаимский храм».» У Понтия Пилата «ужасная болезнь гемикрания, при которой болит полголовы». Поэтому он старается не двигать головой, не поднимает век и говорит тихо.
«– Так это ты подговаривал народ разрушить Ершалаимский храм?
Прокуратор при этом сидел как каменный, и только губы его шевелились чуть-чуть при произнесении слов. Прокуратор был как каменный, потому что боялся качнуть пылающей адской болью головой». (Глава 2 «Понтий Пилат»)
А вот кто с тревогой смотрел, так это Иешуа. «Приведенный с тревожным любопытством глядел на прокуратора».
«Пилата потрясают искренняя доброта этого человека, его спокойствие, отсутствие унизительного страха и особенно слова Иешуа: «Правду говорить легко и приятно». Он, великий прокуратор, не осмеливается говорить правду».
Во-первых, никакого потрясения у Пилата нет в тексте. Возможно потому, что речи бродячего философа о доброте не могли оказать сильное воздействие на опытного чиновника высокого уровня.
Во-вторых, о спокойствии Иешуа говорилось выше. Но можно и добавить. «– Я, доб… – тут ужас мелькнул в глазах арестанта оттого, что он едва не оговорился, – я, игемон, никогда в жизни не собирался разрушать здание храма и никого не подговаривал на это бессмысленное действие». (Глава 2 «Понтий Пилат»)
В-третьих, правду говорят легко и приятно, если не понимают, какие могут наступить последствия от сказанного. Потому Понтий Пилат и достиг должности прокуратора, что у него хватило ума и не хватило безрассудной смелости говорить правду любому и где попало. Так беседа с первосвященником произошла с глазу на глаз. И Каифа ничем не мог бы подтвердить, что сказал ему прокуратор.
В-четвертых, автор учебника мог бы уточнить, что Иешуа высказывает ту правду, которая представляется ему истинной, но не факт, что она такова на самом деле.
«Внезапное прекращение изматывающей головной боли прокуратор связывает с умением Иешуа лечить болезни. Но главное – Пилат уверен, что Иешуа не преступник, поэтому хочет спасти его». Если первое предложение истинное, то второе – ложное. Последнее высказывание повторяется в третий раз, но от этого оно верным не становится. Отсутствует подтверждение в тексте. Поэтому хотя Понтий Пилат знает, что Иешуа преступник, но, не смотря на это, он пытается ему помочь.
И только последняя мысль, как и первая – соответствуют тексту. Иудейские священники действительно считали убеждения Иешуа страшнее убийства (Вар-равван). Правда, автор не был бы верен себе, если не объяснил по-своему решение Синедриона. Убеждения Иешуа отрицают миф о «народе избранном» и утверждают равенство и братство людей. Каифа же предельно открыто объяснил свой выбор в пользу Вар-раввана. «Знает народ иудейский, что ты (прокуратор – А.Я.) ненавидишь его лютой ненавистью и много мучений ты ему причинишь, но вовсе ты его не погубишь! <…> Ты (прокуратор – А.Я.) хотел его (Иешуа – А.Я.) выпустить затем, чтобы он смутил народ, над верою надругался и подвел народ под римские мечи! Но я, первосвященник иудейский, покуда жив, не дам на поругание веру и защищу народ!» Автор учебника мог не согласиться с Каифой, что Понтий Пилат сознательно добивался освобождения Иешуа, чтобы вызвать волнения или даже восстание в Ершалаиме и получить основание для жестких репрессий в городе. Но для этого следовало попридержать фантазию.
И, наконец, «Иешуа и Пилату высшие силы даруют бессмертие: имя Иешуа навеки будет связано с понятием добра и человечности, а прокуратора Иудеи будут помнить и проклинать за то, что он отдал приказ казнить Иешуа».
Яйн, как говорят немцы, т.е. и да и нет. Если бессмертие для Иешуа – дар бога, в которого он верит, то для язычника Понтия Пилата – это наказание. И, во-вторых, это Воланд показывает, что Иешуа и Пилат обладают бессмертием. Но никто до недавнего времени не проклинал прокуратора за казнь Иешуа. Потому что и об Иешуа никто до последнего времени не ведал. Пока о нем не рассказал Воланд.
Таким образом, автор учебника ни Иешуа, ни Понтия Пилата не показал такими, какими они изображены в романе. Иешуа показан более возвышенно, а Понтий Пилат менее мужественно.
Восприятие образа мастера
Автор учебника использует прием сравнения героев романа. Это, как уже говорилось, может рассматриваться как положительный момент, с точки зрения науки. Главное, чтобы это сопоставление не было фантастическим.
Уже в первом высказывании автор учебника допускает неточность. «Основная проблема, волнующая автора, – взаимоотношения художника и власти, личности и общества».
С этим нельзя согласиться. Если М.Булгаков изобразил в романе дьявола, то основная проблема для писателя была в другой сфере – неполитической и несоциальной. Во-вторых, у мастера не было никаких отношений с властью, кроме случая ареста по ложному доносу. И то, разобравшись, писателя отпустили. Поэтому можно согласиться, что в романе присутствует проблема взаимоотношения личности и общества, но не как основная. Иешуа пострадал от Иуды и синедриона. Мастер пострадал от Алоизия и литературной ассоциации (МАССОЛИТ).
В следующем высказывании мы снова наблюдаем неточность. «Его (мастера – А.Я.), как писателя, волнуют вечные, общечеловеческие проблемы, вопросы о смысле жизни, о роли художника в обществе».
Во-первых, мастер себя не рассматривал как писателя.
«– Вы – писатель? – с интересом спросил поэт.
Гость потемнел лицом и погрозил Ивану кулаком, потом сказал:
– Я – мастер, – он сделался суров и вынул из кармана халата совершенно засаленную черную шапочку с вышитой на ней желтым шелком буквой «М». Он надел эту шапочку и показался Ивану в профиль и в фас, чтобы доказать, что он – мастер». (Глава 13 «Явление героя»)
Во-вторых, мастер писал роман о Понтии Пилате. Его интересовала эта личность и события с ней связанные. К сожалению, автор учебника не подтверждает свои слова цитатами из текста, которые бы указывали, что мастера волнуют вечные проблемы, вопросы о смысле жизни, о роли художника в обществе. Получается, что это высказывание опять-таки голословно.
Далее автор учебника продолжает традицию ошибочных утверждений.
«Мастер, как и Фауст Гете, одержим жаждой познания и поиском истины». Конечно же, нет. Хотя мастер и историк, но в отличие от ученого Фауста он пишет роман. А художественное произведение отличается от научного исследования допустимостью вымысла, фантазии. Поэтому так обрадовался мастер, когда услышал от Ивана Бездомного пересказ рассказа Воланда.
«Тогда гость молитвенно сложил руки и прошептал:
– О, как я угадал! О, как я все угадал!» (Глава 13 «Явление героя»)
И даже если мы посчитаем написание романа – поиском истины, то после завершения произведения у мастера нет никакого желания продолжать писать.
«После некоторого молчания Воланд обратился к мастеру:
– Так, стало быть, в Арбатский подвал? А кто же будет писать? А мечтания, вдохновение?
– У меня больше нет никаких мечтаний и вдохновения тоже нет, – ответил мастер, – ничто меня вокруг не интересует, кроме нее, – он опять положил руку на голову Маргариты, – меня сломали, мне скучно, и я хочу в подвал». (Глава 24 «Извлечение мастера»)
Дальше автор учебника пишет: «Свободно ориентируясь в древних пластах истории, он ищет в них вечные законы, по которым строится общество». Конечно же, нет. Как уже было сказано, мастер пишет роман о Понтии Пилате и не ищет вечные законы.
«Ради познания истины Фауст продает душу дьяволу, Мастер у М.Булгакова также знакомится с Воландом и уходит с ним из несовершенного реального мира». И снова нет. Во-первых, Фауст не продает душу, а заключает договор. И если Мефистофель не выполнит своих обязательств, то душа Фауста ему не достанется. Так в конце произведения и оказалось. Во-вторых, мастер получает покой в вечном приюте без какой-либо договоренности с Воландом. Поэтому оба героя и сами разные, и в различных отношениях состояли с дьяволом.
Далее, автор учебника, в который раз, называет мастера писателем. «Для писателя жить и не творить – равнозначно смерти». Да, но это утверждение не применимо к мастеру. Он не считал себя писателем и не хотел больше писать.
«Отчаявшись, Мастер сжег свой роман, вот почему «он не заслужил света, он заслужил покой». Во-первых, не отчаявшись, а из-за страха, вызванного обострением душевной болезни. Во-вторых, скорее, мастеру показалось, что он закончил роман, но Иешуа решил, что нет, и поэтому он вынес вердикт – «он не заслужил света, он заслужил покой».
Таким образом, в первом высказывании присутствует неточность, второе, третье, четвертое, пятое, шестое – полностью неверны и только седьмое является дискуссионным. Жаль.
Сравнение образов Иешуа и мастера
Автор учебника, сравнивая Иешуа и мастера, находит между ними как общие черты, так и отличия.
Общие черты
Во-первых, «оба героя не имеют крыши над головой». Нет. Мастер имеет крышу над головой в психиатрической лечебнице. Причем если психическое здоровье его не улучшится – то хорошее содержание и уход он будет иметь до конца жизни.
Во-вторых, «они отвергнуты обществом, преданы и арестованы». С этими утверждениями можно согласиться.
В-третьих, «оба невинных уничтожены». Нет. Во-первых, Иешуа – да, был казнен, но он не был безвинным по законам того времени. Кстати, до начала ХХ века за такие речи в некоторых странах Европы можно было получить реальный срок. Во-вторых, мастер был выпущен из-под ареста и до конца своих дней мог спокойно и сытно проживать в психиатрической больнице.
В-четвертых, «их вина в неподкупности, чувстве собственного достоинства, преданности идеалам, глубоком сочувствии к людям». Это как на похоронах – о покойнике или хорошо, или ничего? Во-первых, ни Иешуа, ни мастеру деньги никто не предлагал. Поэтому нельзя утверждать, что они неподкупны. Во-вторых, Иешуа был готов умалить чувство собственного достоинства и просил прокуратора отпустить его. В-третьих, оба не были преданы идеалам настолько, что были готовы за них умереть. Если бы мастера не вытащили из больницы, то он там и продолжал находиться. В-четвертых, интересно, каким людям сочувствовал мастер? Маргарите – да. А кто другие люди? Далее ниже по тексту Э.Чумакевич заявляет, что «Мастер же не прощает своих гонителей».
В-пятых, Иешуа доверился Иуде, мастер доверился Алоизию Могарычу. И оба были ими преданы.
В-шестых, у Иешуа и у мастера было по одному ученику – Левий Матвей и Иван Бездомный. «Ученики сначала были очень далеки от позиции своих учителей: Левий был сборщиком податей, Понырев – революционным поэтом». До этого места все верно. А дальше автор учебника допускает ошибку. «Левий поверил, что Иешуа – воплощение Истины. Понырев постарался все забыть и стал обычным служащим, отказавшись от псевдопоэзии». Понырев стал профессором и ничего не забыл. Он каждый год на весеннее полнолуние видит:
«…в потоке складывается непомерной красоты женщина и выводит к Ивану за руку пугливо озирающегося обросшего бородой человека. Иван Николаевич сразу узнает его. Это – номер сто восемнадцатый, его ночной гость. Иван Николаевич во сне протягивает к нему руки и жадно спрашивает:
– Так, стало быть, этим и кончилось?
– Этим и кончилось, мой ученик, – отвечает номер сто восемнадцатый, а женщина подходит к Ивану и говорит:
– Конечно, этим. Все кончилось и все кончается… И я вас поцелую в лоб, и все у вас будет так, как надо». (Эпилог)
Таким образом, первое, третье, четвертое и шестое утверждения – неточные, со вторым и пятым можно согласиться. Многовато ошибок для школьного учебника.
Различия
Видимо, забыв, что выше автор учебника написал о «преданности идеалам», ниже он заявляет, что «Мастер устал бороться с системой за свой роман». Вообще-то, честно говоря, за произведение он совсем не боролся, т.е. не предпринимал никаких действий.
«Иешуа же за свои убеждения идет на казнь». Нет. Слово «идет» означает осознанное решение, в то же время, как Иешуа просто не понимал возможные летальные последствия своих речей и робко пытался их избежать. «А ты бы меня отпустил, игемон, – неожиданно попросил арестант, и голос его стал тревожен, – я вижу, что меня хотят убить».
«Иешуа полон любви к людям, прощает всех». Яйн. Да, Иешуа считает всех людей добрыми, но в романе есть только одно указание, что Га-Ноцри кого-то прощает – Понтия Пилата. Поэтому заявление, что Иешуа прощает всех – голословно, т.е. бездоказательно и поэтому является логической ошибкой.
По мнению автора учебника «Мастер же не прощает своих гонителей». Да, это так.
И последнее различие между мастером и Иешуа. «Мастер исповедует не религиозную истину, а философскую». Теперь осталось только узнать у автора учебника какую. В романе философская истина, которую исповедует мастер, не указывается.
Таким образом, первое, второе и пятое утверждения – неверны, третье – неточное, только с четвертым можно согласиться. Мда.
Восприятие образа Маргариты
Автор учебника немного места уделил рассмотрению образа Маргариты в романе. Есть в этом и положительный момент – меньше неточностей и ошибок.
«Истинную, умную и жертвенную любовь вносит в жизнь Мастера Маргарита. Во имя любви к нему она готова мстить критикам, спасать из огня роман, поддерживать опасное знакомство с потусторонними силами, идти до конца в желании избавить Мастера от всех бед. «…Иду на все из-за него», – говорит она Азазелло». «Маргарита полна воли и бесстрашия в поисках выхода для себя и своего возлюбленного. Эта всеобъемлющая любовь реальна и фантастична одновременно. Счастье и несчастье в ней слиты воедино при высоком накале чувств. Для Мастера самоотверженная любовь Маргариты – высшая награда, как и «покой», обещанный Воландом».
С таким взглядом автора учебника на чувства Маргариты можно согласиться, если не спрашивать – а что такое любовь и какой она бывает? По крайней мере, это вопрос дискуссионный.
«Превратившись в ведьму, Маргарита не утратила любви и милосердия. У Воланда она просит не за себя, а за преступницу Фриду, наказание и муки которой кажутся ей чудовищными». Если с первым утверждением можно согласиться, то со вторым нет. Маргарита действовала не из милосердия. Она подала Фриде надежду и не хотела чувствовать себя виноватой. А вот подходящий пример к утверждению о сохранении Маргаритой милосердия, когда она попросила Воланда за Понтия Пилата.
«– Двенадцать тысяч лун за одну луну когда-то, не слишком ли это много? – спросила Маргарита.
– Повторяется история с Фридой? – сказал Воланд, – но, Маргарита, здесь не тревожьте себя. Все будет правильно, на этом построен мир». (Глава 32 «Прощение и вечный приют»)
Таким образом, вопросы о том, что такое любовь, ее ценность, значение и какая она бывает – это все дискуссионные вопросы, которые можно обсуждать, имея разные точки зрения.
Восприятие образа Воланда
«Образ Воланда – оригинальная трактовка писателем сущности дьяволизма. Воланд несколько похож на Мефистофеля, это подчеркивается эпиграфом к роману. Как и Мефистофель, Воланд – часть той силы, которая, стоя на позициях зла, часто творит добро».
Воспринимать слова Мефистофеля или Воланда буквально, забывая, что за ними скрывается дьявол – отец лжи, будет чересчур легкомысленно. Мы не будем задавать вопрос, какое же добро сотворил Мефистофель, но смерть Берлиоза, убийство барона Майгеля, мастера и Маргариты – назвать добром, было бы очень смело.
«Булгаковский сатана пришел на землю по-своему наказывать негодяев». Здесь автор учебника путает понятие возмездия с понятием произвол. Возмездие – это справедливое и соразмерное наказание за нарушение. Воланд же действует по-своему – это и называется произволом. И тогда возникает вопрос: приводит ли произвол дьявола к возмездию для нарушителей или же сатана совершает произвол исключительно по прихоти? Наказание соответствует нарушениям? Или является чрезмерным, или даже символичным. Или же вообще никак не соотносится с деяниями? Но в последнем случае будет ли такой произвол наказанием?
Например, история с Жоржем Бенгальским. Разве конферансье заслужил за свои действия или слова реальное отрывание головы? Он был безвреден и безобиден. Так что по отношению к нему нельзя говорить о справедливом наказании или возмездии – чистой воды произвол. Действия Михаила Берлиоза или барона Майгеля, по нашему мнению, не тянут на высшую меру наказания, т.е. произвол в отношении этих лиц чрезмерен. А Алоизий Могарыч, доносивший на мастера, отделался испугом при встрече с Воландном, но впоследствии стал финдиректором Варьете и изменился только в худшую сторону. «Такой сволочи, как этот Алоизий, он (Варенуха – А.Я.) будто бы никогда не встречал в жизни и что будто бы от этого Алоизия он ждет всего, чего угодно». Следовательно, произвол в его отношении был символичным и наказание недостаточным. Или же случай с Иваном Савельевичем Варенухой. Его наказал Азазелло, но не за хамство и ложь по телефону. Это всего лишь прикрытие, а за ослушание. Администратор, несмотря на предупреждение, пытался отнести в органы документы, связанные с пропавшим директором Варьете Степаном Богдановичем Лиходеевым. За это Варенуха был избит Бегемотом и Азазелло и превращен Геллой в вампира. Поэтому заявление Азазелло: «Хамить не надо по телефону. Лгать не надо по телефону. Понятно? Не будете больше этим заниматься?» будет ложью. Не за это пострадал администратор. Но да Варенуха обещание свое сдержал и стал невероятно отзывчивым и вежливым. Будет ли его наказание справедливым? Определенно, нет – чистой воды произвол.
Так что слово наказание в утверждении автора учебника лучше всего взять в кавычки: «Булгаковский сатана пришел на землю по-своему «наказывать» «негодяев»: кто голову потеряет, а кто и по карьерной лестнице вознесется».
Далее автор учебника поет дифирамбы (преувеличенная похвала) Воланду. «Он не предает, не лжет, не вовлекает людей в раздоры, умеет ценить все искренное, талантливое». Так и хочется поинтересоваться, а точно о сатане идет речь?
Итак, Воланд «не предает». Он отдал распоряжение убрать Никанора Ивановича Босого и Коровьев сообщил в органы о валюте, которую сам же управдому и вручил. Другой пример. Маргарита согласилась стать королевой Великого бала у сатаны, чтобы узнать что-нибудь о мастере. Воланд понимал это и предложил ей расправиться с литературным критиком Латунским, осознавая, что и кому он предлагает. И только после отказа Маргарита узнала, что у нее есть лишь одно желание. Если бы она согласилась на предложение Воланда, то уже ничем не смогла бы помочь мастеру.