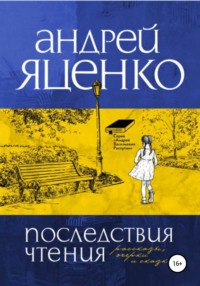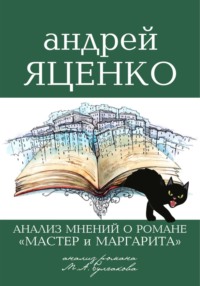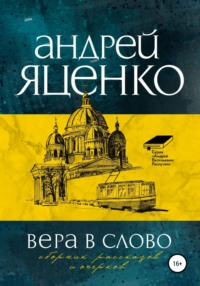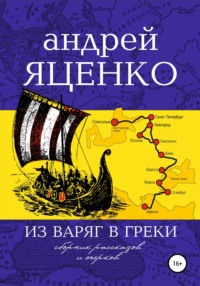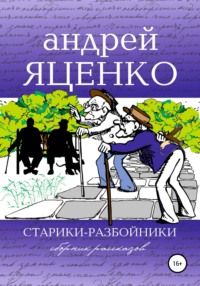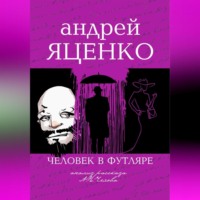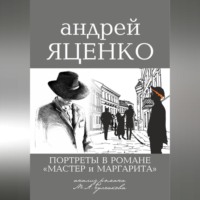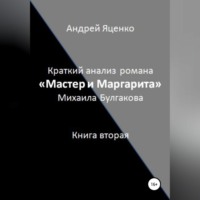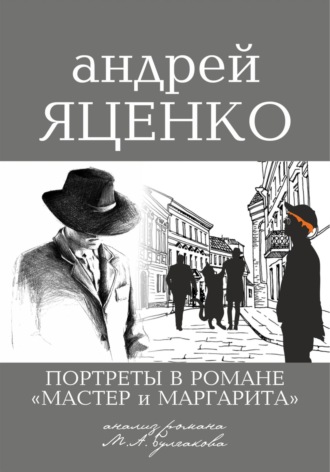
Портреты в романе «Мастер и Маргарита». Анализ романа М.А. Булгакова
«Венчающая список надпись «Дом драматурга и литератора» заставила Маргариту испустить хищный задушенный вопль. Поднявшись в воздух повыше, она жадно начала читать фамилии: Хустов, Двубратский, Квант, Бескудников, Латунский…
– Латунский! – завизжала Маргарита. – Латунский! Да ведь это же он! Это он погубил мастера».
По правде говоря, к критике романа приложили руки многие, как минимум все члены редакционной коллегии толстого художественного журнала во главе с редактором Берлиозом: критики Латунский и Ариман и литератор Мстислав Лаврович.
Сначала со статьей «Враг под крылом редактора» выступил Ариман. Критик обличал попытку мастера протащить в печать апологию Иисуса Христа. Затем вышла статья Мстислава Лавровича. Литератора предполагал крепко ударить по Пилатчине и тому богомазу, который вздумал протащить ее в печать. Далее последовала безымянная статья автора с инициалами «Н. Э.». И, наконец, самой последней – статья Латунского «Воинствующий старообрядец».
Авторы всех статей, вероятно, соглашались с мнением Михаила Берлиоза о фигуре Иисуса Христа. «И вот теперь редактор читал поэту нечто вроде лекции об Иисусе, с тем чтобы подчеркнуть основную ошибку поэта. <…> Берлиоз же хотел доказать поэту, что главное не в том, каков был Иисус, плох ли, хорош ли, а в том, что Иисуса-то этого, как личности, вовсе не существовало на свете и что все рассказы о нем – простые выдумки, самый обыкновенный миф». (Глава 1-я «Никогда не разговаривайте с неизвестными»)
Мастер же, как и поэт Бездомный, изобразил Иешуа живым человеком. Только у Ивана Николаевича «Иисус в его изображении получился ну совершенно как живой, хотя и не привлекающий к себе персонаж». А мастер, наоборот, изобразил Иешуа достаточно привлекательным. Это могут подтвердить авторы глав о романе во всех школьных учебниках.
Тем не менее, Маргарита Николаевна с самого начала сосредоточилась лишь на одном из критиков – на Латунском. «Я так увлекся чтением статей о себе, что не заметил, как она (дверь я забыл закрыть) предстала предо мною с мокрым зонтиком в руках и мокрыми же газетами. Глаза ее источали огонь, руки дрожали и были холодны. Сперва она бросилась меня целовать, затем, хриплым голосом и, стуча рукою по столу, сказала, что она отравит Латунского».
Мастер соглашался с возлюбленной и нисколько не сожалел бы о трагической смерти критика.
«Описание ужасной смерти Берлиоза слушающий сопроводил загадочным замечанием, причем глаза его вспыхнули злобой:
– Об одном жалею, что на месте этого Берлиоза не было критика Латунского или литератора Мстислава Лавровича, – и исступленно, но беззвучно вскричал: – Дальше!» (Глава 13-я «Явление героя»)
Критические статьи не закончились на четырех вышеназванных. Над первыми мастер смеялся. Второй его стадией была стадия удивления. Наконец, наступила третья стадия – страха. У мастера наступила стадия психического заболевания, он стал бояться темноты. В середине октября заболевание перешло в болезнь.
Негативные чувства к критику Маргарита Николаевна сохранила и спустя полгода. Это видно по ее ответу Азазелло на скамейке у Кремлевской стены.
«– А вы, как я вижу, – улыбаясь, заговорил рыжий, – ненавидите этого Латунского.
– Я еще кой-кого ненавижу, – сквозь зубы ответила Маргарита, – но об этом неинтересно говорить». (Глава 19-я «Маргарита»)
Таким образом, Маргарита Николаевна была твердо убеждена, что критика именно Латунского погубила мастера как человека и писателя. По словам самого же мастера, над первыми статьями он смеялся, следовательно, в том числе и над статьей Латунского. Если же критик продолжал выпускать новые статьи против романа, то вот они уже могли оказать пагубное воздействие на психику мастера. Но все равно нужно учитывать, что вина критика в психической болезни мастера будет не индивидуальной, а коллективной. Как же оценивает последствия для Латунского УК РСФСР от 1926 года? Согласно статье 142 УК РСФСР от 1926 года, в случае доказанности вины критика, он мог получить наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет1.
Теперь рассмотрим, какое наказание получил Латунский от Маргариты Николаевны как ведьмы, т.е. представительницы нечистой силы. Намазавшись кремом от Азазелло и став невидимой, она первым делом попыталась свести счеты с ненавистным критиком. Латунскому повезло дважды. Маргарита не застала его дома и поэтому разгромила только квартиру2. И после бала у сатаны она попросила Воланда не убивать критика.
«– Нет! – воскликнула Маргарита, – нет, умоляю вас, мессир, не надо этого.
– Как угодно, как угодно, – ответил Воланд, а Азазелло сел на свое место».
В Эпилоге о Латунском автор не вспоминает. Последствия для него указаны в главе 21-й («Полет»). «Да, говорят, что и до сих пор критик Латунский бледнеет, вспоминая этот страшный вечер, и до сих пор с благоговением произносит имя Берлиоза. Совершенно неизвестно, какою темной и гнусной уголовщиной ознаменовался бы этот вечер, – по возвращении из кухни Маргариты в руках у нее оказался тяжелый молоток».
Таким образом, из четырех членов редакционной коллегии толстого художественного журнала, которые яростно критиковали роман мастера о Понтии Пилате, пострадали только двое: Михаил Берлиоз3 и О. Латунский. Критик Ариман и литератор Лаврович ничуть не пострадали: ни потерей жизни, как редактор, ни утратой имущества, как Латунский. Получается, что Ариман и Лаврович вообще не понесли никакого наказания, а не то чтобы справедливого.
Во-вторых, за неприятную, но открытую критику романа мастера Маргарита Николаевна мечтала, чтобы Латунский заплатил жизнью, но критик поплатился только утратой имущества и испугом. Сравнение последствий для персонажей показывает, что из-за критики мастер сошел с ума и попал в психиатрическую клинику, а вот Латунский только лишился имущества и спустя годы бледнеет, вспоминая тот страшный вечер. Как мы уже указали, согласно статье 142 УК РСФСР от 1926 года, в случае доказанности вины критика, он мог получить наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет4. Вот это с точки зрения государства было бы справедливым наказанием, а не убийство Латунского или уничтожение его имущества. Первое, с точки зрения права, было бы чрезмерным, а второе – недостаточным.
Конечно, некоторые полагают, что лучше хоть что-то чем ничего. Однако, «хоть что-то» никак не соответствует понятию справедливого наказания. Оно должно быть соразмерно той вине и вреду, которое причинил виновный. А «хоть что-то» как раз и указывает явно, что наказание несправедливо, и заявлять иное было бы ошибкой.
Так что, во-первых, нельзя полагать наказание Берлиоза (от Воланда) и Латунского (от Маргариты) справедливым, и, во-вторых, следует учитывать, что Ариман и Лаврович ни с точки зрения права, ни с точки зрения морали – никак не были наказаны.
Михаил Александрович Берлиоз
Персонаж романа «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова, председатель правления МАССОЛИТа (Московской ассоциации литераторов) и редактор толстого художественного журнала.
Описание персонажа дано в шести главах: 1-й («Никогда не разговаривайте с неизвестными»), 3-й («Седьмое доказательство»), 5 («Было дело в Грибоедове»), 7-й («Нехорошая квартирка»), 13-й («Явление героя») и 23-й (Великий бал у сатаны»).
Анализ описания героя представлен в статьях «Михаил Александрович Берлиоз» на страницах «Михаил Булгков. Жизнь и творчество», Булгаковской энциклопедии и Википедии.
Наименование персонажа
Мы полагаем, что имя, отчество и фамилия даны автором персонажу не случайно, а несут существенную информацию о нем.
Михаила Александровича в романе неоднократно путают с французским композитором Гектором Берлиозом.
«– Вы Берлиоза знаете? – спросил Иван многозначительно.
– Это… композитор?
Иван расстроился.
– Какой там композитор? Ах да, да нет! Композитор – это однофамилец Миши Берлиоза!» (Глава 6-я «Шизофрения, как и было сказано»)
К сожалению, литературоведы, например, Леонид Видгоф в лекции «Михаил Булгаков» дальше сделали всего один шаг. Лектор заявил, что композитор сочинил драматическую легенду (ораторию) «Осуждение Фауста» (1846) и на этом Видгоф остановился. Хотя совершенно закономерен вопрос – что конкретно плохого сделал композитор Берлиоз, за что в романе ему отрежут голову?
Читательница Dinara Lyapina задала себе такой вопрос и нашла ответ – Гектор Луи Берлиоз – французский композитор (1803—1864). Написал такие произведения, как «Фантастическая симфония», оратория «Осуждение Фауста» и др. Гектор Луи Берлиоз – основоположник демонизма в европейской музыке.
Мы проверили данное предположение. Французского композитора Гектора Берлиоза (Louis-Hector Berlioz) действительно привлекали сюжеты разных художественных произведений, в том числе фон Гёте. Композитор сочинил драматическую легенду (ораторию) «Осуждение Фауста» (1846). Он же на основе трагедии написал либретто в соавторстве с Альмиром Жандоньером, где в противоположность Гёте, осудил Фауста и в конце оперы направил его на вечные муки в ад.
Видимо, такая концовка для доктора Фауста в оратории не понравилась Михаилу Афанасьевичу. Вероятно, писатель был с ней не согласен, поэтому-то персонаж, который должен был закончить свою жизнь под колесами трамвая, получил фамилию французского композитора Берлиоза.
К пониманию, почему Булгаков мог дать персонажу фамилию Берлиоз, позаимствовав ее у французского композитора Гектора Берлиоза, можно поинтересоваться, могут ли значения имени, отчества и фамилии добавить еще что-нибудь к характеристике героя.
В романе «Мастер и Маргарита» имя Михаил только один раз употреблялось писателем. Михаил (ивр. Михаэ́ль) – мужское личное имя еврейского происхождения. Происходит от слов ивр. (ми кмо элохим, сокращённо «ми-ка-э́ль»). Имеет два толкования: чаще встречается дословно – «Кто как Бог», но также читается и в вопросительной форме, как риторический вопрос: «Кто как Бог?» или «Кто подобен Богу?» в значении – «никто не равен Богу».
Мы же видели в романе, что Берлиоз отрицал существование Бога и показывал себя не просто начитанным, а очень образованным. На вопрос Воланда: «кто же управляет жизнью человеческой и всем вообще распорядком на земле?» Бездомный ответил: «Сам человек и управляет», а Берлиоз с ним согласился: «Сегодняшний вечер мне известен более или менее точно. Само собой разумеется, что, если на Бронной мне свалится на голову кирпич…» А раз человек сам управляет своей жизнью, то тогда он сравнивается с Богом. И на вопрос: «Кто как Бог?», человек уверенно может заявить: «Я как Бог».
Александр (др.-греч. ἀλέξω «защищать», ἀνήρ (р.п. ἀνδρός) «мужчина») – мужское личное имя греческого происхождения, состоящее из двух корней: «защитник» и «муж, мужчина». Таким образом, имя Александр часто переводят как «защитник людей», «воин», «мужественный».
В романе мы видим, что Берлиоз до последнего отстаивал свои атеистические воззрения и веру в возможности человека самостоятельно распоряжаться самим собой.
Наконец, фамилия Берлиоз имеет французское происхождение и происходит от фамилии Берлио, которая в свою очередь происходит от латинского слова “berullus”, что означает “маленький медведь”. В средние века это имя было распространено в Европе, а в России стало известно благодаря выдающемуся французскому композитору Гектору Берлиозу.
В русском языке имя Берлиоз может быть написано как с ударением на первый слог – Берлиоз, так и на второй – Берлио́з. В англоязычных странах имя обычно пишется как Berlioz, без ударения на какой-либо из слогов.
В романе персонаж действительно представлен как герой маленького роста и упитанным. Так что он вполне походил на медвежонка.
Таким образом, мы видим, что Булгаков отразил в имени персонажа как его взгляды, черты характер, так и внешний облик героя. К этому следует добавить, явную отсылку к однофамильцу редактора, французскому композитору Гектору Берлиозу. Видимо, концовка для доктора Фауста в оратории не понравилась Михаилу Афанасьевичу. Вероятно, писатель был с ней не согласен, поэтому-то персонаж, который должен был закончить свою жизнь под колесами трамвая, получил фамилию французского композитора Берлиоза.
Описание персонажа
Он был маленького роста, упитан, лыс, хорошо выбрит и в больших очках в черной роговой оправе. Имел высокий тенор. Одет в летнюю серенькую пару и в шляпе. Не курил. Был очень образован.
«…одетый в летнюю серенькую пару, был маленького роста, упитан, лыс, свою приличную шляпу пирожком нес в руке, а на хорошо выбритом лице его помещались сверхъестественных размеров очки в черной роговой оправе».
«…редактор был человеком начитанным…», «…Михаил Александрович забирался в дебри, в которые может забираться, не рискуя свернуть себе шею, лишь очень образованный человек…»
По мнению поэта Бездомного, редактор был «красноречив до ужаса» (Глава 11 «Раздвоение Ивана»)
По мнению мастера, Михаил Александрович человек очень хитрый. «А Берлиоз, повторяю, меня поражает. Он человек не только начитанный, но и очень хитрый». (Глава 13 «Явление героя»)
Осторожен, но, тем не менее, воинствующий атеист.
«Берлиоз <…>, подбежал к турникету и взялся за него рукой. Повернув его, он уже собирался шагнуть на рельсы, как в лицо ему брызнул красный и белый свет: загорелась в стеклянном ящике надпись «Берегись трамвая!». <…>
Осторожный Берлиоз, хоть и стоял безопасно, решил вернуться за рогатку…» (Глава 3 «Седьмое доказательство»)
При встрече с мастером осенью прошлого года Михаил Александрович Берлиоз5 тоже проявлял осторожность в разговоре с неизвестным доселе автором романа.
«Он смотрел на меня так, как будто у меня щека была раздута флюсом, как-то косился в угол и даже сконфуженно хихикнул. Он без нужды мял манускрипт и крякал. <…>
…он засуетился, начал что-то мямлить и заявил, что самолично решить этот вопрос он не может, что с моим произведением должны ознакомиться другие члены редакционной коллегии…»
И в последовавшей серии критических статей на публикацию отрывка романа в газете можно предположить, что Берлиоз был, во-первых, последним и, во-вторых, скрылся под буквами «Н. Э.». Предположить это можно исходя из того, что авторами критических статей были как раз члены редакционной коллегии (Ариман, Лаврович, Латунский) толстого художественного журнала, который возглавлял Берлиоз.
Михаил Александрович Берлиоз был настолько осторожен, что допускал панибратство со стороны, хоть и известного, но еще молодого и малообразованного поэта Бездомного.
«– Вот что, Миша, – зашептал поэт, оттащив Берлиоза в сторону…» (Глава 1 «Никогда не разговаривайте с неизвестными»)
«Тут все увидели, что это – никакое не привидение, а Иван Николаевич Бездомный – известнейший поэт». (Глава 5 «Было дело в Грибоедове»)
Берлиоз имел пятикомнатную дачу в литераторском поселке Перелыгино6 на Клязьме. За два года до основных событий в романе чета Берлиоз заняли три комнаты в квартире №50 на пятом этаже без лифта в доме 302-бис по Садовой улице. В другие две комнаты заселились Лиходеевы. Правда, вскоре Михаил Александрович и Степан Богданович лишились жен. Про супругу Берлиоза рассказывали, что будто бы ее видели в Харькове с каким-то балетмейстером. Детей в браке Берлиоз не имел и его единственные наследники тетя и дядя Поплавские проживали в Киеве.
Место проживания
В 13-й главе («Явление героя») «Мастера и Маргариты» Михаила Булгакова раскрывается, что в судьбе автора романа о Понтии Пилате большую роль сыграл критик Латунский. Тот был членом редакционной коллегии толстого художественного журнала, редактором которого, по всей видимости, являлся Михаил Александрович Берлиоз. В коллегию, кроме Берлиоза и Латунского, входили еще двое: критик Ариман и литератор Мстислав Лаврович.
Коллегия не только отклонила публикацию романа на своих страницах, но и ее члены выступили с резко критическими статьями на появление отрывка романа в газете. Статья Латунского «Воинствующий старообрядец» превосходила по жесткости статьи Аримана и Лавровича и тем вызвала сильную реакцию Маргариты. «Глаза ее источали огонь, руки дрожали и были холодны. Сперва она бросилась меня целовать, затем, хриплым голосом и, стуча рукою по столу, сказала, что она отравит Латунского».
Статьи продолжили идти непрерывной чередой и в итоге довели мастера до сильного психического заболевания и сожжения рукописей романа.
О самом Латунском из произведения мы узнаем немного. Критик похож на патера и у него волосы пепельного цвета7. Вероятнее всего, он был холост, ибо о жене и детях ни разу не упоминается в романе. Более подробно описывается его место жительства.
В главе 21-й («Полет») рассказывается, что проживал критик в недавно построенном роскошном восьмиэтажном «Доме драматурга и литератора». Здание по фасаду выложено черным мрамором, имело широкие стеклянные двери, лифт и в вестибюле красовался швейцар в фуражке с золотым галуном и пуговицами. На этажах располагались всего по две квартиры. Критик проживал в квартире 84 на восьмом этаже, которая имела пять окон на углу здания и состояла из трех комнат. Всего же в ней упоминались: комната, кабинет, спальня, кухня, ванная и коридор.
Итак, критик Латунский проживал один в трехкомнатной квартире на восьмом этаже в роскошном «Доме Драмлита». За чистотой следила, проживавшая в квартире домработница Дуся.
Теперь же сравним отдельную квартиру пусть и нерядового сотрудника толстого художественного журнала, с местом проживания его начальника – редактора. Заранее можно предположить, что уж руководитель имел как минимум такую же квартиру, как и его сотрудник, а, возможно, даже более представительную.
Внешность Михаила Александровича Берлиоза описана в первой главе романа («Никогда не разговаривайте с неизвестными») более подробно, чем критика Латунского. Редактор был маленького роста, упитан, лыс, хорошо выбрит и в больших очках в черной роговой оправе. Имел высокий тенор. Не курил. В день перед гибелью был одет в летнюю серенькую пару и носил шляпу.
Два года назад редактор с женой переехал в дом 302-бис по Садовой улице и заселился в квартиру N 50, которая располагалась на пятом предпоследнем этаже в шестом подъезде без лифта. Описание квартиры и дома дано в главе 9-й («Коровьевские штуки»). Правда, после бегства жены Берлиоз проживал один только в трех комнатах из пяти. Он занял кабинет, гостиную и столовую бывшей владелицы – ювелирши Анны Францевны де Фужере. Остальные две комнаты занимал директор театра Варьете Степан Богданович Лиходеев, переселивший свою жену на Божедомку. За порядком в квартире следила приходящая домработница Груня.
Сравнивая условия проживания критика Латунского и редактора Берлиоза, сразу можно указать, что сотрудник обладал лучшими условиями, чем его руководитель.
Критик и редактор проживали в домах на последнем и предпоследнем этажах. Однако, в подъезде у Латунского был лифт, а Берлиозу надобно каждый раз подниматься и спускаться по лестнице. Кроме того, дом, в котором проживал критик, был недавно построен, поэтому имел роскошный вид и представительного швейцара на входе. Ничего подобного о доме Берлиоза сказать нельзя.
Далее, критик и редактор вели холостяцкий образ жизни, но сотрудник проживал в отдельной трехкомнатной квартире, а его начальник, хотя тоже занимал три комнаты, но в коммуналке, деля коридор, кухню и ванную с Лиходеевым.
Наконец, обоим литераторам не приходилось самим заботиться о чистоте в квартирах. У Латунского за этим следила домработница Дуся, а у Берлиоза и Лиходеева – Груня.
Поэтому странно, что после постройки «Дома Драмлита» редактор не воспользовался служебным положением и не занял в нем квартиру, а свои комнаты на Садовой не уступил, да, тому же Латунскому.
Видимо, что-то удержало Михаила Александровича в нехорошей квартирке. И если прежние жильцы быстро исчезали, то новые задержались на два года – до появления Воланда в Москве. А ведь соверши Берлиоз такой обмен, то остался бы жив, а уже из головы Латунского, и с гораздо большим удовольствием, на Великом балу пила бы Маргарита Николаевна.
Роль в сюжете
Михаил Александрович Берлиоз как главный редактор толстого художественного журнала был недоволен поэмой Ивана Бездомного об Иисусе Христе. У поэта тот вышел хотя и отрицательным, но как живой. Берлиоз же полагал, что в поэме нужно показать, что Иисуса как жившего человека никогда не существовало. Воланду взгляд редактора на Христа не понравился и сначала он предъявил свой рассказ как реального свидетеля, а затем седьмое доказательство существования Бога. План Бога можно было узнать с помощью астрологии. Как и было предсказано, Берлиоз поскользнулся на трамвайных путях, и ему отрезало голову. На Великом бале у сатаны голова Берлиоза превратилась в кубок, наполненный кровью убитого барона Майгеля, и из него выпили хозяева торжества – Воланд и Маргарита.
«…каждому будет дано по его вере. Да сбудется же это! Вы уходите в небытие, а мне радостно будет из чаши, в которую вы превращаетесь, выпить за бытие».
Однако, с этим утверждением Воланда нельзя согласиться. Как оказалось, в душе даже у такого фальшивого атеиста, как Латунский есть светлая черта – благодарность. Хотя потом тот же повествователь будет утверждать, что все уже давно позабыли Берлиоза. Нет, повествователь не прав. Критик Латунский помнит и с благоговением произносит имя бывшего редактора. Автор, Михаил Булгаков, осознанно выбрал именно это слово. Благоговение – это чувство глубокого уважения, любви и преданности Богу. Многие церковные руководители говорят, что благоговение – одно из величайших качеств души, поскольку оно отражает истинную веру в Бога, высокую культуру и любовь к самому прекрасному в жизни. Следовательно, критик Латунский с чувством глубокого уважения произносит имя Берлиоза.
«Да, говорят, что и до сих пор критик Латунский бледнеет, вспоминая этот страшный вечер, и до сих пор с благоговением произносит имя Берлиоза». (Глава 21 «Полет»)
«Придя под липы, он (Понырев – А.Я.) всегда садится на ту самую скамейку, на которой сидел в тот вечер, когда давно позабытый всеми Берлиоз в последний раз в своей жизни видел разваливающуюся на куски луну». (Эпилог)
И если хотя бы один человек спустя годы с благоговением произносит имя умершего человека, то Берлиоз не канул в небытие, как утверждал Воланд, а продолжает существовать, он продолжает быть в памяти.
Знал ли ранее мастер Берлиоза?
В главе 13-й («Явление героя») мастер сначала показывает поэту Бездомному, что впервые слышит о редакторе Берлиозе, затем демонстрирует свое знание личности Михаила Александровича, пусть и по слухам. Наконец, мастер вдруг начисто забывает, что он показывал знание качеств Берлиоза и даже как зовут редактора толстого художественного журнала. Зато мастер демонстрирует, что запомнил с первого раза фамилии сотрудников, названных «безымянным» редактором.
Прежде чем мы приступим к демонстрации анализа главы 13-й, нужно обратить внимание на ряд моментов.
Во-первых, в ней действуют не двое, а трое героев. Кроме двух собеседников психиатрической клиники, содержание разговора которых можно оценить, как общение двух сумасшедших и не придавать их «бреду» никакого значения, не замечаемым остается третий, коим является повествователь. Уж его совсем нельзя отнести к душевнобольным.
Во-вторых, для понимания замысла, который вкладывается писателем, является важным соблюдение порядка в романе (последовательность и количество событий).
Эпизод первый – этот Берлиоз
«Описание ужасной смерти Берлиоза слушающий сопроводил загадочным замечанием, причем глаза его вспыхнули злобой:
– Об одном жалею, что на месте этого Берлиоза не было критика Латунского или литератора Мстислава Лавровича, – и исступленно, но беззвучно вскричал: – Дальше!»
Реакция мастера в данном эпизоде на гибель редактора «этот Берлиоз» показывает, что ранее они не были знакомы. Если бы было иначе, то мастер назвал бы погибшего без указательного местоимения «этот», которое подчеркивает, что речь идет именно об этом Берлиозе, а не о каком-то другом. Хотя иное объяснение может быть проще – перед фамилиями Латунского и Лавровича стоят слова, указывающие на их профессии. Без местоимения «этого» перед фамилией Берлиоза нарушилась бы симметричность – «этого» Берлиоза, «критика» Латунского, «литератора» Лавровича.