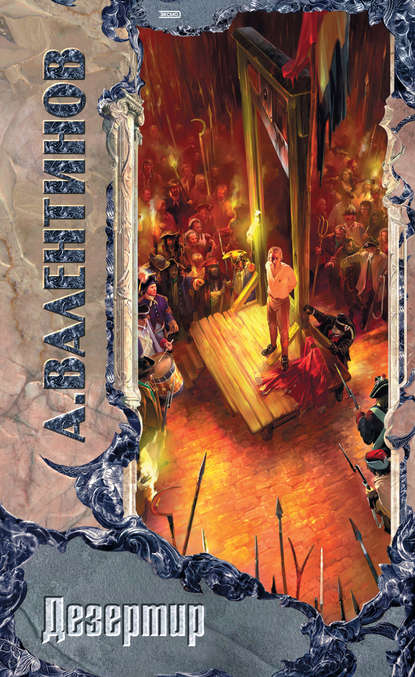По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Дезертир
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Не он один, – негромко добавил Вадье. – Никто из его Комитета не затронут. Очень красиво получилось…
Меня не тянуло разгадывать ребусы, но тот, кто подсказывал мне, решил эту несложную задачку и продиктовал ответ. Ответ был прост. «Чистым» оказался Комитет общественного спасения и его председатель. Тот, чья подпись стояла первой на документе национального агента Шалье. Гражданин Максимилиан Робеспьер, давно уже невзлюбивший как Эбера, так и Дантона, а заодно и своих «братьев» из конкурирующего Комитета безопасности. Да, действительно красиво получилось! Но я-то тут при чем?
– Выход один, – продолжал Амару. – Найти де Батца и уговорить его дать показания перед Конвентом. Ни мне, ни другим не поверят – мы ведь в списке гражданина Шабо. Но де Батц боится. Ведь если в этом случае он выполнял наш приказ, то за иные грехи ему не оправдаться. Он слишком замаран…
– Агент-двойник, – понял я, и Амару согласно кивнул:
– Даже хуже. Де Батц – авантюрист, он торговал информацией налево и направо. Говорят, барон связан даже с организацией д'Антрега. Но нам он бывал очень полезен…
– Найдите де Батца! – Черный парик гражданина Вадье дрогнул. – Вы же знаете его еще по Лондону! Найдите – и уговорите дать показания…
– Обещайте ему безопасность! – подхватил Амару. – И деньги – сколько он хочет. Впрочем, что ему обещать, вы сами знаете.
Я знал этого барона? Нет, его знал не я, его знал национальный агент Шалье! Но фамилия показалась почему-то памятной. Может, и я прежний был знаком с этим авантюристом? И он тоже знал меня – настоящего?
– Он прячется, но, скорее всего, появляется иногда в «Фарфоровой голубке» – это неподалеку, секция Пик, – продолжал Амару. – Барону некуда деваться из Парижа, его приметы известны всем заставам. Постарайтесь управиться побыстрее…
– И соблюдайте осторожность, – заключил Вольтер в черном парике. – Лучше всего днем не выходить из гостиницы.
– А в Оперу сходить можно? – самым невинным тоном поинтересовался я.
Гости переглянулись, и на губах гражданина Вадье я заметил знакомую усмешку.
– Ну конечно, вы же любитель оперы! Гражданин Шовелен рассказывал… Нет, в Оперу лучше не ходить. По крайней мере, пока. Никто, кроме нас, не должен знать, что вы в Париже.
Я покорно кивнул, окончательно убедившись в любопытном обстоятельстве. Эти двое не знали о «друге», не знали о третьей ложе в Опере, не знали о приглашении…
Гости уже откланивались, причем гражданин Амару вновь попросил поторопиться с розысками де Батца, обещая заглянуть через пару дней. С трудом дождавшись, пока дверь закроется, я извлек из коробки новую папелитку и закурил, пытаясь привести мысли в порядок. Все не так уж и плохо. Занятые своими интригами, граждане из Комитета общественной безопасности сами подсказали, по какой дороге идти. Дороге, которая оборвалась у «Синего циферблата»…
Спешить я все же не стал. Даже если я найду де Батца… Интересно, почему они уверены, что мне это по силам? Наверно, национальный агент Шалье неплохо знал не только барона, но и его укрытия в Париже. Но я ведь не Шалье! Если де Батц знает меня прежнего, то, возможно, постарается любой ценой избежать этой встречи…
Так ничего и не решив, я спустился вниз – и столкнулся нос к носу с мамашей Грилье. Деваться было некуда. Пришлось выслушивать упреки за то, что я ее изрядно напугал, ибо целый день не выходил из комнаты и даже на стук не отзывался. И если бы не добрые граждане, сумевшие таки до меня достучаться, пришлось бы ломать дверь, поскольку ее долг, как хозяйки, бдить, дабы с гражданами жильцами ничего скверного не сотворилось, а равно чтобы упомянутые граждане сами не сотворили чего во вред Революции. При этом мадам Вязальщица поглядывала на мою скромную персону с явным недоверием. Спасло лишь то, что приближалось время очередной «связки» и мамаша Грилье спешила на площадь Революции, где ее почтенные товарки уже заняли ей место у самого эшафота.
Нам было не по дороге. Немного подумав, я покинул «патриотическую» гостиницу и, поймав фиакр, попросил отвезти себя туда, где добрые парижане могут приодеться. Как выяснилось, лучше всего это сделать в Пале-Рояле, то есть, конечно, не в Пале-Рояле, а во Дворце Равенства, где модные лавки по-прежнему к услугам тех, у кого в кармане имеются не только бесполезные бумажные ассигнаты.
Я подобрал себе новенький редингот, галстук и темную шляпу. Заодно купил трость и монокль, который смотрелся все же приличнее, чем очки. Добродетельный буржуа из провинции исчез, а вместо него на меня из тусклого зеркала глядел пресыщенный жизнью щеголь, брезгливо щурившийся через круглое стеклышко монокля. Что ж, в этаком виде вполне можно и заглянуть в Оперу. Сделать это надо, ибо я не был там уже два вечера. Пустующая ложа может вызвать у моего «друга» вопросы, а объясняться еще и с ним никак не хотелось. Хотя бы потому, что «друг» наверняка знает настоящего Шалье. Правда, он мог не утерпеть и лично заглянуть в Оперу. Оставалось надеяться, что тот, кто не советовал мне пить «яд свободы», по-прежнему очень занят.
В этот вечер давали «Ипполита и Арисию» Рамо, и народу у ярко освещенного здания Оперы оказалось куда больше, чем два дня назад. Я с трудом пробился в роскошное, отделанное золотом фойе – и тут же понял, что уже бывал здесь. Когда, с кем – память молчала, но я помнил эти стены, расписной потолок, широкие марши ярко освещенной мраморной лестницы. На душе стало горько, и я еле сдержался, чтобы не уйти обратно, на темную площадь. Я был, я радовался жизни, я ходил в Оперу…
Конечно, я бывал не совсем в этой Опере. Очевидно, в прежние времена фойе не портили огромные лупоглазые бюсты Марата и Лепелетье, равно как трехцветная тряпка над лестницей. Такие же бюсты я заметил в зале, который был прекрасно виден из третьей ложи. Ложа, как мне и было обещано, оказалась записанной на имя гражданина Франсуа Люсона, причем, несмотря на переполненный зал, три места из четырех пустовали.
Я ждал увертюры, но оркестр внезапно заиграл «Марсельезу». Очевидно, без этого в столице Республики не обходились даже в Опере. Зал встал, но тут же послышались шиканье и свистки. Похоже, далеко не вся публика восхищалась творением артиллерийского капитана Руже ле Лиля. Но оркестр доиграл «Марсельезу» до конца и только после этого взялся за Рамо.
Музыку я тоже помнил. Вернее, узнавал. Я слышал эту оперу и даже мог припомнить сюжет. В Афинах правит престарелый Тезей. Его жена, развратная Федра, хочет погубить своего пасынка Ипполита, но у того есть невеста – верная Арисия…
Постепенно все исчезло. Музыка захватила, унесла с собой, и я уже не видел и не слышал ничего, кроме того, что происходило на близкой сцене. Нет, сцена тоже исчезла, я был там, в далеких Афинах, где безумный Тезей проклинает своего невиновного сына и ничто – даже любовь Арисии – не может спасти юношу…
На сцене вновь была Федра – торжествующая, уверенная в себе. Федра – воплощенное зло, ее ярко нарумяненное лицо – словно лик Смерти… Я прикрыл глаза – и вдруг понял, что в ложе я не один. Кто-то сидел рядом. Я осторожно повернулся – и увидел веер. Яркий веер, которым та, что сидела рядом, прикрывала лицо. Затем веер исчез, и на меня взглянула бархатная маска. На незнакомке было роскошное, хотя и несколько старомодное платье, но, странное дело, ни на шее, ни на пальцах я не заметил украшений.
Я хотел что-то сказать, но тонкий палец прикоснулся к губам. Я кивнул – очевидно, Бархатной Маске хотелось дослушать первый акт до конца.
А конец уже близко. На сцене гонец, принесший весть, которую с нетерпением ожидает Федра. Колесница Ипполита опрокинулась – царевич мертв. Проклятье отца сбылось…
В зале уже горел свет, а я все медлил, не решаясь повернуться. Сейчас вновь придется играть чужую роль. Зачем я это делаю? Мертвец играет мертвеца – такого не увидишь даже в Опере!
Когда я наконец повернулся, ложа оказалась пуста. Удивившись, я вышел в фойе, но женщина в маске исчезла. Похоже, она и не собиралась говорить со мной. Достаточно и того, что «друг» узнает о моем появлении. Конечно, богатое платье и маска меняют человека, но не узнать ту, что навестила меня в гостинице, было трудно. Я вспомнил, что на женщине не было украшений, и невольно усмехнулся. Похоже, «друг» верен себе. Если шампанское – «яд свободы», то браслеты – не иначе как «кандалы».
Начало второго акта я помнил. Мертвый Ипполит недвижно застыл на смертном ложе, и так же недвижна фигура Арисии, припавшей к груди мертвеца. Слезы уже выплаканы, девушка замерла, не в силах вымолвить ни слова…
И вот снова Федра. Царице мало смерти Ипполита. Ее ненависть не угасла. Еще жива Арисия – из-за любви к ней молодой юноша отверг домогательства мачехи. И теперь Федра собирается рассказать ей все. Рассказ длится долго, но Арисия молчит. Царица удивлена, она начинается злиться, но девушка не произносит ни слова…
Внезапно я подметил одну странность. В первом акте я почти не прислушивался к словам, но теперь убедился, что текст, явно мне знакомый, стал каким-то другим. Наконец я понял. «Цари» и «царицы» исчезли. Вместо этого на сцене появились «градоправитель» и «градоправительница». Выходит, Республика, Единая и Неделимая, позаботилась обо всем, даже о «чистоте» либретто. Впрочем, опера не стала от этого хуже. Великое творение Рамо осталось таким же прекрасным. Прекрасным – и страшным.
…Федра уходит – и Арисия встает. Руки воздеты к Небу, молчаливому Небу, допустившему преступление. Голос девушки звенит, моля о справедливости. Этого не должно быть! Это не должно было случиться…
Мне подумалось, что на этом лучше бы все и закончить. Все и так ясно – справедливости нет на земле, и едва ли она есть даже на Небе. Еврипид и Корнель написали о безвинной гибели одного молодого парня. Республика, Единая и Неделимая, губит таких парней «связками» – и Небо молчит…
Впрочем, Небо не молчит. Гремит гром, молнии прорезают сцену, и Великий Зевс изъясняет свою волю. Злодейка Федра будет покарана, а несчастный Ипполит – безвинная жертва преступной страсти – вновь возвращен к жизни. Появляется Deus ex machinae – Зевсов сын Асклепий – и волшебным жезлом прикасается к груди бездыханного Ипполита…
Музыка гремела, преступную Федру волокли в темницу, Тезей прозревал, а Арисия обнимала воскрешенного Ипполита. Хор пел о справедливости, о каре, которая неизбежно постигнет злодеев, а мне внезапно стало скучно. Так не бывает! Погибшие не возвращаются. Даже если они вновь появляются среди живых, они остаются мертвыми, и им ни к чему уже любовь и преданность. Да и не спешат боги восстанавливать справедливость. Греки знали это, в давнем мифе говорилось совсем о другом – Асклепий воскресил царевича против воли Зевса. И молния сожгла того, кто преступил закон Неба. Ипполит – живой ли, мертвый – исчез, погибла Федра, погиб Тезей. А несчастная Арисия – была ли она вообще?
На этот раз в кофейне «Прокоп» было людно. За столиками не оказалось свободных мест, и я с трудом протолкался к стойке. Хозяин, рассылавший «мальчиков» налево и направо, тут же заметил меня и ухмыльнулся:
– Рамо слушали, гражданин? Вам крепкий? Без сахара?
Память у него была неплохая.
– Без сахара, – согласился я. – Очень крепкий.
Наследник достойного Прокопа кивнул, что-то шепнул очередному «мальчику» и вновь повернулся ко мне:
– Ну и как вам постановка?
– Градоправительница Федра хороша, – усмехнулся я. – А «Марсельеза» еще лучше.
– Сильно свистели?
– Не очень. Больше шикали.
– Ну, это ничего, – подытожил хозяин. – Да вы садитесь, гражданин! Вон, место освободилось!
Действительно, одно место за маленьким столиком у окна было свободно. Я поблагодарил и хотел последовать его совету, но хозяин предостерегающе поднял руку:
– Только вы с тем парнем… что за столиком… поосторожнее. Не в себе он.
Странно, тот, кто сидел у окна, никак не производил такого впечатления. Статный черноволосый парень в прекрасно сшитом сюртуке, пышный галстук завязан по последней моде.
– Шарль Вильбоа, – шепнул хозяин. – Журналист. Вы с ним не разговаривайте! У него три дня назад погибла невеста. Так что вы лучше…