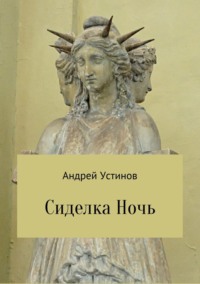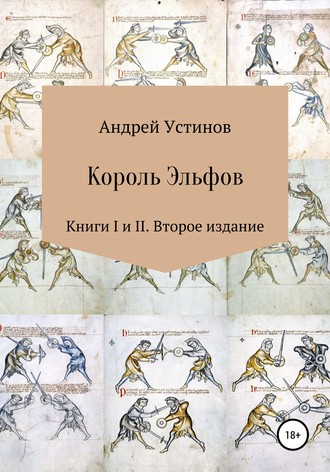
Король эльфов. Книги I и II. Второе издание
– Карента, чтобы тя. Успоковался, франчонок? Зазнать бы еще, хде она, а? Тамгрят девки – волшевницы! – Серж хохотнул, треснул какую-то ветку и перегарный роздых приблизился почти к лицу. – Молодчик, мастер Геэль, молодчик, так вот и стражи. – Тяжелая железёная вачега долбанула мне по плечу… – Охе-хо! А! Не мычишь? Молодчик! Завтрема вот, в уволку прихвачу с нами, а? Юбашонок-то гоношить-щипать, а? Устроим им Каренту, а? О-хе-хо! Вот, кстаже, а хде там мой Щербачок? Щеербочка? – загнусавил, отвратно хохоча. – Позыв у ме, хе-хо, обслужи уж по-франковски!..
О Глах!
У меня… У меня не было тогда воли сражаться с сержем по-мужски. Хотя какой там муж? Самое достойное ему – топориком бы сзади до жижи, аки слизняка. Но и на это не было сердечного порыва. Да и была бы воля – что бы сделал? И куда бы пошел? И потому – я лишь дернулся слабовольно, будто самого меня ткнули стебарю в причинное место, кадык заплёкался в безгласом спазме, да серж ответа и не ждал, – похрюкивая, уже пробирался наощупь в утробу поста…
А я лишь отшатнулся с его пути, стыдливо перегнулся через планширь в темную сырость, разблевываясь и давя звук, пока там, в душном посте, меняли друг друга хрюканье и хныканье, сопение и какое-то чмоканье… ббббоже… ааагрх, хггр… фуух… вот, тля… ну, вонец… не учуял бы, ирод.
– Ааа, слатенький! – заорал серж внутри, перебивая истошный Щербачовский писк. Еще поорал, пугая подкрышных нетопырей (так абрашки и сполошнулись из-под строп) и выпростался наконец в улицу, что-то приволакивая хвостом (кажись, портупей) и тяжко вздыша. От разлившегося кругами мерзового духа, от жаркой туши, почти трущейся о локоть, мне опять заворотило кишки чуть не до горла, еле устоял на млеющих поджилках – ошершил даже щеку о стену, да косяком и приочнулся.
– Охе-хо. Стовай мне, рымля… Ну, завтрема, франчонок. Стражи мне тут… Щербочку мою стережи… О-хе-хо! – протоковал ирод на роздыхе, почти нежно, и опять одарил меня варегой, тля, да уже без злого размаха, и попер-попер-попер натуральным одинцом, хвоща и ломя зазря полноягодный ще боярышник, будто не сознавая дорогу. И ниже зачавкал по ольхам, к ручью… видать, бошку от зелья отмочить. Да никакой эльфийской влажи на сю скверну не хватит! Ах, тля… Ааагр… фуух… урод же.
Вскоре человечий треск утих и опять тревоги – то нетопырь обратно под ендову скребется, то осьмизубы в лесной подстилке слепошатся… то ли палый гландис (ну, желудь) прополошил осоку, то ли совушка погадку отрыгнула. По-настоящему, я токмо черного одинца и опасался – ладно бы желудился, а то привадился по корням трюфеля ковырять, нешто делиться? Но то днем… А ща точию завидовал желтоглазихе-неясыти, как ей все ведомо и явно в ночной паутине. Еще выругнулся на сержа по-детски (чтоб до полудня хрипелось), отыскал с пола давешний факелец, потыкал ветошью в затаенную крынку с деревянным, трудно раскурил огниво… хмурясь, прогрел махоточку отвара (горчит немилостно). Эх! Факелец приладил пока в щель меж хилыми сосновыми гредами (эх, криволапы), сам присел-привалился на негодный обрубок, насильно прихлебывая. Пламя шипело над ухом, обессиленно тщась укусить, заполняя плескучей щепотою весь мой тогдашний мирок…
Что же, гордиться мне нечем. Но я часто возвращаюсь памятью в ту ночь, где столь густо перемешалась вся путаница тех дней. Когда я жил, ей-глаху, как слабоумный подросток… сущий dérangée, кому довольно было минуты, чтобы перейти от плача к смеху. Какое же метарейское слово? Блажеверный? Когда не думаешь об окружающем зле, а просто сосуществуешь с ним. Когда и воспоминания, и сны – легко перемешивались в детском моем сознании, будто в некой Аристофеновой комедии. И ежели я выступал в той комедии первостатейным горховым шутцом – так и что с того? Надо быть честным с прошлым, даже не для друзей (им-то можно хоть три короба пестрых лент на уши накрутить!), но для себя. Ибо только помня прошлое можно видеть будущий путь. Ибо никогда не нужно приукрашать себя, но недокрашивать – можно. А ежели и приукрашивать, то сатирически и преувеличенно, будто на ярмарке под кривым стеклом. Хах! Помните свои кривые образы? И потому, что столько раз вспоминал и перебирал в памяти каждый свой огрех, рассказ мой уже не рассказ очевидца, а будто перевранный трижды парафраз нелепой сатиры, где перепутаны сон и явь. Но что же делать, если заслужил эту сатиру? Итак… Я безглашно дремал на посту, и во сне переживал заново другой сон, с которого начались мои Метарские службы…
А было так: сон был густой, без сполохов, и вдруг-да будто льняное полотно души начали пожигать лучинами… да, будто меня пытали за колдовство, за вожество с эльфами, за неведомые мироскольные страсти. “На одр шельмеца”, приказал кто-то темный, а ложе было – набитая гвоздьями дощина, да еще раскаленная. Сами-то пытатели точно были чернокнижники, ибо как же так? Доска и коркой не тлела, но жгла спину немилостно. И вот – они кричали на меня назвать грядущую королеву. И Гаэль (это я), хотя и во сне, хотя и мучимый нестерпно, почему-то неуемно и злостно хихикал над ними, ибо ведал (не знамо как), что были они суть-невеждами и про будущее – даже правильного пророчества не зрили в тех лучинных скрижалях. И гвоздья израстали все новые и новые из ощерившейся глазка́ми доски, плавились на жару и ростились в погань, в дурнушник шипучий, слоясь на черешках в двух-трехраздельные колючки. “Нет, он ничему не пророк и не свидетель!” – причёл разочарованно кто-то темный, не разглядев во мне корысти, и Гаэль (это я) ажно разыкался от горького смеха сквозь злые уколы дурнушника, как же нет в нем корысти, ибо он и был центром миротока? Аааа! – уже взвыл я, Гаэль Франк, выпадая изо сна, ибо не проспел познать их тайнозвонное слово: но что же суть мир-о-ток?
– Ух-фу, ух-фу… – я дрожал, скукожившись, часто-часто дыша, опять не помня себя. Тело (не я) начало как-то распеленываться, усаживаться, обживаться… Где же? Бесцветная сыростливая камора, чёй-то тусклеет и шуршит (улица?) из амбразуры над головой… ах, и каплет с ее подошвы за шиворот. Справа дверь окованная, но с подвыбитой доской, еще там в углу некий чугунок, ч-ч-что же это, урыльник да без крышки? В нос той же миг шибанули мерзостные миазмы и тело вяло скособочилось, блевно изрыгаясь под стену, всю и без меня шедшую сохлыми пятнами… ух-фу… да нечем изрыгаться. Пробила испарина… голова, хотя в тумане, что-то начала соображать – я в стражнице, поди? Брошенный надысь бесчувственным кулем на дощаное лежбище, но без тюфяка, прям-да на нестроганые задорины. Еще занятно: толстые крепкие ноги лежбища одеты в железные тазы… ха, будто в рваные боты! Да-да, присно и вода тамо же гноилась, судя по обильной слизи, да проржавились уж всквозь… К чему бы тазы? Тут рука левшая сама ишь-то потянулась расчесать раззудшую отлежанную щеку, да я и взвизгнул по-бабьи, вскочив и ощупываясь: запястье, да что, вся рука, весь я… весь был в мелочных ранках; по всей плоти торжествовали раздувшиеся кровяные гладыши – их шевеление ощутилось разом и под запятнанной вдрызг сорочкой, и за ухом чой-то (пшел!) заскреблось… и в яйцевище (ох, Голох!) засвербило нестерпно.
Тако и помучался, разоблачившись до зяблых нагишей, давя клопьев по всем швам и по́лам, облачившись было брезгливо… да и опять, но ничё уж не сыскал на третий раз, – вышло, по мнительности досада. Но все-то вздрагивал и взрыпливался опять расчехвоститься, сидел нахохленно, бубливо голохясь под нос, пока терпеж не подошел. Кое-как, прижав ноздри, дыхая в ладонь, оправился у чугунка и отскочил с запинкою, с портами на коленах еще, кропля еще глинистый пол, обратно под скудосветную амбразуру – поветрие посвежее словить. Но в дверь не бил бивмя и стражу не зыкал вельмово, давешней трепки хватило.
Наконец – я дернулся от дремы. Кто-то далече в коридоре жмакнул железной дверью, прохохотал эхом во все закоулки, протоптал тяжко до моей каморы, скрипанул ключем в скважине и бухнул сапогом по окантовке. Дверь испуганно ломанулась внутрь и в проеме заплясали огневые тени, затем выказался статный усач в кожаном прикиде стражника (таких-то я и следил вчера по городищу). Малый приладил факел в крепеж на стене, только при огне и развидевшийся, почистил от чего-то картофельного ус, потешно скосив глаза, затем сочно сплевнул какую-то бурую жвачку в сторону чугунка, цыкнул, что-то выцепил в зубе кривым засаженным пальцем, еще хрюкнул носом и сплевнул еще, будто на меткость, и добродушно воззрился на меня:
– Ну что побылось? Гуторишь по метарски-то, а, блаженный? – Голос его оказался сочный, особо гулкий по каморе, действительно обильный слюной (ибо стражник снова весело плюнул в чугунок), и живо напомнил виденные вчера на фруктовом развале желтые пузырчатые срезы помпельмуса.
– Не… ны… – замычал я, взвившись было на новый окорот вроде “не знаю чина вашего, господин хороший” (ах, всё злые следы риторики, коей меня зазря потчевали дома!), да вовремя осекши язык. Да еще потянувшийся с коридора запах кухни пустил стокмую резь по желудку, что оный буркнул простодушно, вовсе уравнивая меня с усатым пришельцем (про себя я уже окрестил его картофелеусом). – В-вполне разумею, мой сударь, – я ответствовал в итоге несколько нахохлисто, но без верхних ноток в голосе. Метара его ведает, к добру ли тот малый?
– Агась… – Стражник вдруг разухмыльнулся, абы заклад выиграл. Засим вдумчиво дал двери пару добродушных тумаков, выпростал факел взад и подшагнул ближе: будто подпалить меня хотел (с перепугу помни́лось), да на тусклом луче из амбразуры факел утих и лишь тихо шипел. – Ну, ходку-то выходишь? Больно ты блажил давеча… – Еще покрутил на меня белесыми глазами и добавил, ажно причавкнув и сам себя переплюнув: – Как ты пожрать-то? А потом до коменду погре… хр‑р, тьфу!.. потолкует с тобой за твое рожьё.
Итожно – картофелеус вывел меня в харчевальный зал, где моложавая стряпиха хохотнула невнятно: “Новенный, что ль? На поскребушки и соль!”, – и чавота нарочито наскребла мне с котла. Я и хотел, да уже не мог рассориться, совсем поплыл головой при явном виде и дыхе еды – густая бобовая кашица, даже, кажись, со шпиковой нарезкой и черными чесночными зернами. Ткнулся с поданною ущербной миской за ближний стол, где под светильником завидел еще ничейную пару горбушек серого, да и принялся ломтевать кашу в рот… о‑о… от же горячий пересол! Проводник мой тем часом подсел к четверке окоженных мужланов (ох, и непробный тут народец требуют в стражу! дворяне ли вовсе?) и я, отходя от первого жора, начал уже почище выскребать плошку хлебом и даже с любопытством прислушивать… Гундели примерно так:
– …и так засранцы щедровали по домам, и тот Грегор, кабы что, подмускатил дружка из Голоховских служек, чтобы надписал им харателину, мол, выдана префектом сифонариев. Токмо когда на жнивне вышел пожар в гадальной кварте, попали они на главного схоласта, тот и спросит: кто таковы? Грегор ему на́ свою диплому в нос – мол, от герцога поможатели. Тот прощелыга тоже – пустил их мнимо, а сам секретаря до нас выгнал. Комендус его пыжит: ты что же такой-сякой препоны тлеешь моим помповикам? А он – да какие тать-ять вашеские сифонарии, когдать такая подделка! Так и записано: выдана префектом сифилариев!
Аааааа! Хохотливое эхо так и забилось гусью-лебедью под низкими сводами харчевальни. Да точно Момос, веселый божок, самолично посетил нажорников: один топотал по гулящей половой доске до несносного резонанса, другой, слезясь в ручьи, кувасил по столу латной варегой, так что дрожали сбившиеся в испуганную отару оловянные кружки, третий… От седних неприбранных столов и другие служивые потянулись, роняя утварь, узнать анекдот… корчась от гоготливого удушья, отваливались обессиленно, истово шлепая друг друга по плечам чуть не до преставления. Мне, ради Глаха, странно было их наивное веселье: никто ли не ведал буквы настолько, чтобы усомниться в бытности срамной описки? Но, как бы ни там, подпав под сей клацающий хохочущий рой, да особо после пряной запивки с общего кувшина, и мое настроение тажно вспенилось… вообще, от еды развезлось по всему телу теплое умиление, хотя что-то нет да и бурчало в толобасе живота.
Идти к коменданту пришлось сквозь улицу – из черной двери в углу дома мы вывалились в денное солнце и говорливую толпу; в нос били запахи редиса и тимьянного меда из расставленных прям-вдоль стены лозовых корзин и перетянутых ремнями кадок; в проулке мокрое линялое белье трепеталось сквозь мористый ветерок и вяхиревое сражение в пыли за какую-то корку. Затем – во двор с белесыми колоннами и выше-выше по щербатой лестнице; настроение мое тажно вышилось с каждой потертой ступенькой, будто по мажорным нотам: как же не признают во мне дворянина? да определят может к энтому герцогу! или вселят в трактир, пока отпишут домой! и поручат временно кошель энтих… как… левов! и уж буду-то осторожней с элем, и девку возьму одну для качества… аль двух ли?!
Солдат (другой уже, белобрысый веснушарик) завистно придержал меня, зажав в горсть клок моей куртки и отянув назад. В светлой, крашеной охрой комнате без двери – за входной аркою, сквозь солнечные клинки наискосок, виделся боком давешний добротный бородач: нынче-то в зеленом плотном мундире, впрочем, расстегнутом на часть крючков, знамо, от усердия! Будто пыжащийся за тяжким дубовым столом над кожистым пергаментом с угнетенными краями – знамо, неподдельная герцогова хартия, коли даже папье-прессы в виде диковинных змеев! Комендант простыл над нею со стилусом во взнесенной руке, вотще водя по воздуху какие-то знаки зодиака, в школярских муках плутая по завиткам букв; в завитой бороде его тяжелились потные капли…
Аха-ха! Тогда, на ночном посту, даже просквозь дрему, я шибко прихлопнул в ладоши от столь славного сна. Как забавно, спустя годы, смотреть на себя со стороны! Казалось мне, ей-ей вот ухвачу птицу-удачу за злащеную гузку, но от хлопка моего, от вздражения стенки под спиной, хилый факелец пал обратно на земляной пол: пламя пышнулось обидчиво кривыми хлопьями, да тут же выродилось в тлен и скверный чад. И подручный сон, люди и слова-птицы, даже сам фантастический образ мой, яркий абы любо-молодец, начали киснуть как под порчей, обличаясь школярскими карикатурами…
Вот так было:
– А-ха! – я вальяжно было хохотнул, все еще в добродушном настроении, предчувствуя яркое возвышение своей позиции грамотея-астро́нома при дворе, но ах! Веснушарик так прицельно, як-же муху, шлепком осадил меня по губам, что я самотельно съежился, попомнив тычки наставителей в ликейоне, покрылся затем пунцовыми пятнами и забулькавшими в груди выдохами… уфф!.. тожвременно кипятясь воображением гнева и стыдностью детской знобы в костях. Уфф!
– Мессир комендант! – тревожно доложился стражник, так и жесточа меня за куртку. И едва бородач, отираясь от бисеристого пота до гневных круговертных брызг, тяжело подъял голову (стриженную весьма кратко, по дворянской моде, но оттого ще боле бычевидную) – стражонок (да сам-то животом слаб!) тонко заквачил, задрожав рукой и сбиваясь с устава: – Квамо той блаженный. Квелено, вкормлен до ушей!
– Також! – развесисто проронил черноглав, абы приложив змиеву печать к тяжким раздумьям. И столь прожег меня палаческим взглядом, будто я-гость был досадной кляксой на том пергаменте. Пожевал еще губами, как бы пробуя шаткий зуб и предчуя неприятность выдерга, но пока срыгнул растяжисто: – Ну, давай покумуем. – Солдатик при сих словах сердечно дал мне-пленнику крайнего растычка и был с глаз долой. Мне же, промыкавшему весь свой музыкальный настрой, осталось лишь непредставленно проковылять, неловко шаркая, под очи командующего:
– Я… п-позвольте… Ваше п-превосходительство… Гаэль Франк к вашим услугам… могу быть полезен… – тут я и вовсе потерялся на солнечном свету, бьющем в лицо, и во всех самовольных шумах и запахах из расство́ренного окна, и опять странно окоченел грудью, потерянно переступая поднемевшими ногами. Еще и чуял внутренним ухом гнусный поскреж кованой набойки по камню (где же вторая? отлетела?), можился закаменеть, да все зазря… А сквозь солнечный морок и натекающий со лба пот так и жгли меня угли-очи коменданта, медленно качнувшегося на стуле и тож попавшего под солнце… кои затем зазеленели и заплясали во взрыве хохота:
– Ну, право, облаженный… – голос открылся густым и с акцентною притяжкой на гласных, богатой потаенными обертонами: – Что-то мнешься, как на костре, а-а? Еще пока не тащим, а? Ох, облаженный, ни монеты, а прикид на клирика. Испит, изодран… Как же ты к нам закаверзился, за-ассанец?
Я столь опешил от сей тирады, самой долгословно-благозвучной, слышанной на сих берегах, но зело стращающей тайным нижним тоном, что и проболтался как на духу:
– По окончании ликейона Коголанского, ваше превосходительство, был с вояжем совершеннолетия в сии края, в сопровождении родича, каковый Тимон подвергся давеча злочестному нападению, почему остался я, Гаэль Франк, к вашим услугам, без полагающихся к положению средств, о чем прошу вашей милости в восстановлении и связи, и направлении…
– Стой, стой!.. – бородач опять то ль от зуба морщился, утирая болезную слезу, то ли употел в казенном наряде, то ль… может ли быть? смел смеяться над моей злой досадой? Ах, варвары!
Но затем он замрачнел резко, буде изжога накатила и изгрызла всю радость жизни, ибо поднагнулся вбок, доставая емкость… выхлебнул быстро, морщеваясь (кисло, ать!), винца со скупого кувшина, и взотрыжил, утирая с губ красные капли, словно репетируя депешу и дискутируя правильность мер:
– Також… Коголан!.. Как в Коголане оном, ведомо нам, примножились варвары безголохие… чему доказательно есмь улики… сего нищеброда волею герцога милосердно накормить с челядью… и направить в каторги, в солевые пасеки… також, да… с искуплением содержания и затрат. Стража!!! – и тяжко так взгрел кулачьем по столешнице, что кувшин досадливо припрыгнул и будто бы сплюнул каплею на драгоценный документ.
Ах, кувшин! Пошто же я им остоль заинтересился? Остоль, что мысль осеклась… Ах, да. Мелкий, неглазурный, походу просто домашний кумганчик со скупою крышкой, абы не выплеснуть неряшным замахом, – обыденно пользуют для опохмела (гой-еси, яблоневая заливочка на меду!); также аптекаря держат там досадные жидкие порции от свербления и закупорейства (хех!); тоже в домах изысканных (гостевали у стольных родичей) тако подают черный горький чай, именуемый кофьем… И лишь егда солнечный свет перебился вдруг и опала теплая воздушная тяга у щек, и уже чесночнодухая пара стражей глумливо хватанула подмышки, той-то я-каторжник всполошился, визжа как свин на заклании (ах, стыдно вспоминать!):
– А-а! Но как же безголохий?! В ликейоне на авгура третировали… вояжем совершеннолетия к… к-к-купели Метаровой… Вот же а-амулет наследный! А-а! Голохом… А-а!!! – меня уж выволочили почти со скрежетом (то набойки опять), вывернули лицом в пол, голова уже таращилась за аркою в сырую каторжную темь, взор уткнулся в секоножных пауков каких-то, разбегшихся от моих колошматящихся сапог, яко от полундры, или как-там… valonder? Да-да-да! Так во шторме кричал тот шкипер, егда також колотило и болтало, и матросы ворочили меня (Гаэль Франк, к вашим у-у-у) в трюм от лишнего героизма…
Уф! Кактож, покачиваясь с носок на пятки, опять я остолбился перед комендантовым столбищем, мутным взором разглядывая знатные буквы на пергаменте – но почто вверх ногами? Таки колебракрушение?.. Корлебла… Глаше мой.
– Единоверец? – переспросил бородач раздумчиво, вертая в руке мой амулет на тонкозвенной цепке, в ликейоне заслуженный, – искуснейший серебряный молот, коим Голох размозжил мирового змея. И нащурил еще черны очи, экий грамотей, разбирая зацарапанную дату посвящения. – Не варвар, сталоть. На слуге-то не сыскано… – Еще раз почтительно потер молот толстыми распальцами с оломанными-огрыженными ногтями (ах, варвар, черный стриженый варвар!) и знаком велел веснушарику вернуть мне оберег. Иже ведал, злодей, бо страшнее несть вины перед Голохом, чем именный апотропей перенять!
– Також, слушай, – заговорил комендант с мучительным облегчением, аже зарыжев будто бородой; отложил указный стилус и поглядел на меня с некоторым блеском радости. Продолжил звучно: – Напугался, а-а? Ох, облаженный… Что ты? У герцога нашего с варварами разговор сух, коли вескими левами не сблещен, а? Но доброму отроку в беде – велено поможать по рассудку. Но зерцай на себя – вылитый же ты зассанец; дядька пропадом пропал… деньги все, коголанские ваши златы динары… – Тут я слабо мотнул ухом, ибо то ль почудилось от головокружия, то ль и впрямь комендантий чем-то при том зычнул в кармане. – Ну дал бы тебе, а? Но завтрема будешь тут же, облаженный, а-а то и… – Бородай выразительно щелкнул ногтем по грамоте! Я вжался было головой чуть не подмышки, чуть не в чеснотных стражников обратно кутнулся, но да окстился-задышал, воспомнив, что сие лишь актерский жест – видали такие истории! А дальше губы бородача долго еще оживленно трепенились, будто встрявший оконный ветр, надутый Голохом, влаживал в них некие спасительные словеса… кроху от щедрот!..
Уф… Опять, как тогдавеча в стражнице, сон побежал распеленываться, теряя краски и звук, оставляя… что? Бесполезные знания, вызванные из небытия поминанием ликейона, взвились в голове сумятным вихрем, самоскладываясь в книгу-толковище:
Ах, если сон, как ведали анатомики, есть цветастый шар электрики, закутанный в серую шаль Голоховой дремы, то разум цепко еще держался за паутину сей дремы, перебирая ейные нити-поминания, натканные… но которой суженицей? Это было важно! Смешливицей ли Лахесой, и все могло еще разменяться на взмах век – прибудет искать меня из Коголана старший брат, например… – либо кручиницей Клото, знамо, замыслившей из моих злоключений дидактейский узор? Ах…
Я все еще перебирал витки того дня:
Небось – опять терял сознание? А сейчас-то – зело помнились и отческие уговоры коменданта, как-де славно юноше подтянуться в верной службе, и, чуть-лишь я принужденно чавкнул губами (денежки-то тю-тю-тю), дивно расцветшая веселость бородача, лично прокатившего меня до воинского лагеря на казенном дрянном шарабане и кивавшего по дороге на всяк-броскую кочку, будто тараторящего длинный заговор. Три образа отпечатались крепко: замок неведомого герцога Раваха на скале над бухтой – черные башни, скупые на бойницы, под зелено-золотыми штандартами Метары; потом – среди скелетов, что грелись на трикосых распяльниках за воротами, свежерваный труп рыжебородого лайфера – утренняя стражничья добыча (и комендантус опять хвастал, как дятел!); а сколь прибыли – сальная рожа сержа, кому комендантус (трижды сдохни, ворюга!) долго оживленно втирал про звонкую добычу, и про опробованную с утреца складщавую молодку, что самодушно продалась за долги (ух! а могла б моею быть!!), и коему спихнул меня, нареча заморейным родичем на седьмом киселе и велевши (скот! все равно черный скот!!) важить и свойную сержову судьбу не пытать. Не пытать было разотрыжено со знатным ударением – и на том спасибо.
Как позже развиделось – то была тщательная стратегия неведомого герцога Раваха: безкошельный пришелец в Метаре имел-таки нескудный выбор – солевая пасека, аль военный сезонный лагерь. В гарнизоне, укрытом в трех милях от гавани, на смыке полей и глухого перестоя, светилось потому шибкое число отъявленных рож, дивом слинявших с виселицы и управлявшихся только остреным бодцом и кнутом. Сержова ж (вжик-вжик!) политика была проста: важить того иль нежить этого, – а шибко спорых назавтра же без рогожки скатывали под овраг. Так вот еднажды томились мы со Щербой, чудны́м бродяжкой, на самозаднем глухом посту и не заспел еще я выспросить судьбу паренька, как налетели дюжие гопники… три орла, три горла́… взалкали было наклонить нас обоих, хохотали криворожно: ужо, блондинчик! Но я… уж таким визгливым крысенышом в угол забился, право, как оборотился… верещал Голох-весть-что об родича коменданта и сержа-охранителя, выпростав дрожащую ржавленую пику, что сии вожжевые, перешептавшись, словесато покрыли замореныша, да и плюнули-недоплюнули. А в целом – по обрывкам сержевых баек-нравоучений на гимназиуме выходило, что раз-другой за сезон кодлу ихнюю кидали угнетать коих-либо герцоговых воспыливших данников. Нешутейные Раваховы войска притом перли чохом сзади и ретирады не спущали. А ежели кто чудом не перемалывался на болотный торф – беспочетно возвращевался в тот же ад на новый срок! Вожжевым! Ужели – то и была моя судьба, окороченная радельницей Атропой? Ахх…
Но чу:
– Гэль? Гэль? – запелся робкий оклик из глуби домика и стенца за плечами застукнулась неровно. Ах, Щербачок!
– Да тут, тут! – я ответил негоромко, раскачнулся на неровном топчанке, встремнул резво, ощупью хватаясь за бревна – ноги-то занемели и колен вще не чуял, смешно! А Щербик, как вечно, забубнил что-то на славном своенном наречии:
– Човта задремался, а? Човта не щелкнул? – забубнилось сперва из домика, затем и сам Щербачок затокался из двери. Немного уже занималась утреница – был еще серый час, но тень Щербы уже виднелась густыми подви́гами, а слышилась и паче: зевая скважно, разминал плечи. Вот чудик, как птах живет, каждый час у него как заново жизнь идет. Через серость хоть, а и так я чуял Щербову улыбку до ушей, и сам смеялся: