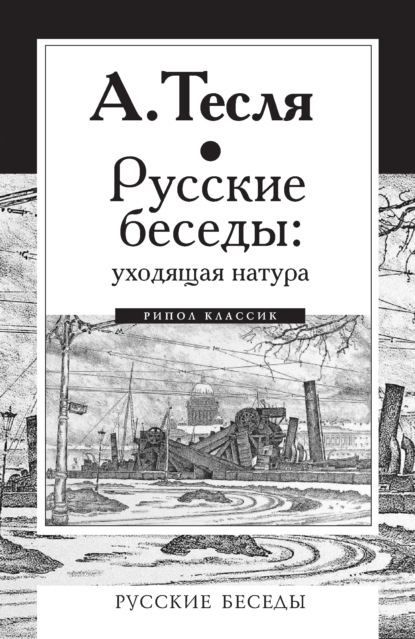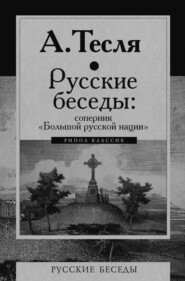По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Русские беседы: уходящая натура
Жанр
Серия
Год написания книги
2018
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
I мировая действительно оказалась последней войной в старом смысле – там, где есть «противник» – и первой полноценной войной нового типа, где противостоит «абсолютный враг»: она начиналась как способ решить политические вопросы, каждый из участников строил свои планы на послевоенное урегулирование, выглядящие, исходя из знания результатов, фантастическими именно в силу своей ограниченности, ведь «общая рамка» предполагалась неизменной. Надеялись занять такие-то территории, взять Константинополь, вернуть Эльзас и Лотарингию, присоединить Триест, установить контроль над Сербией. Закончилась война исчезновением четырех империй (Австро-Венгерской, Российской, Германской, Османской), ликвидацией самих политических субъектов, что дойдет до своей завершенности в 1945 г., когда союзники оккупируют территорию противника и затем, через несколько лет, с «нулевой позиции» сконструируют новые политические тела. Если враг абсолютен, то с ним ведь невозможны переговоры, а раз так, то он должен быть уничтожен, и затем уже, «с чистого листа», возможно новое действие.
Поскольку война тотальна, а враг абсолютен, то вопрос вины приобретает ключевое значение, при этом он может быть решен лишь в рамках однозначного ответа на вопрос, кто начал войну: либо вина лежит на нас, либо виновен враг. Война теперь результат преступления и сама является преступлением, отсюда тот бесконечный спор о вине, который союзники постараются разрешить прямым указанием в Версальском договоре, вынуждая Германию признать свою виновность, и тем самым признать справедливость победителей.
Теперь мы находимся в ситуации, когда слова Вильсона почти оправдались – войн больше нет, «война» сама по себе стала преступлением, ее невозможно объявить, каждая из сторон проводит следствие и настаивает на признании виновной другой стороны, обвиняя ее в начале «войны», а на международном уровне говорят о «конфликтах», «столкновениях» и т. п., проводят «миротворческие операции», поскольку более невозможна и «война ради мира». «Мир» стал тотальным – но сомнительно, стал ли он безопаснее по сравнению с 1914 г., поскольку из этого состояния «мира» невозможен выход в мирное состояние.
3. Об одном из путей в современность
[Рец.:] Малиа М. Локомотивы истории: Революции и становление современного мира / Под ред. Т. Эммонса; пер. с англ. Е.С. Володиной. – М.: Политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2015. – 405 с.
«[…] до XIX в. все европейские революции начинались ненамеренно: реформаторы ставили конкретные, ограниченные цели, а потом с опозданием обнаруживали, что достичь их можно, только перевернув вверх дном весь привычный мир» (стр. 86).
Мартин Малиа, скончавшийся в 2004 г., – выдающийся американский историк-русист, автор по сей день остающейся непревзойденной интеллектуальной биографии Александра Герцена (доведенной до 1855 г.), которая уже одна дает ему полное право на величие, – никто до него и мало кто после сумел столь глубоко и одновременно изысканно-тонко передать переплетение интеллектуальных подходов и настроений, среди которых формировалась русская интеллектуальная традиция XIX века. Подобная глубина и тонкость отмечала и его последующие работы – он неизменно стремился соединить воедино внимание к индивидуальности конкретного лица и широкую интеллектуальную и социальную панораму. «Русские споры» оказывались у него одновременно и «русскими», связанными со специфической ситуацией места и времени, и включенными в общеевропейский контекст, его интересовало то, как и почему французские или немецкие идеи подвергались подобной переработке местными интеллектуалами, почему идеи и концепции, мало известные или относительно скоро забытые у себя на родине, получали в России широкое распространение. Иными словами, для него была значима не сама по себе тема рецепции или переработки – установление интеллектуальных связей и зависимостей было лишь первым шагом в его исследованиях, где, как правило, он, кстати, опирался на уже добытые результаты научных исследований своих предшественников. Вопросы, которые он предпочитал ставить и на которые пытался отвечать, были следующего порядка: что обусловливало интеллектуальную чувствительность именно к этим направлениям мысли, что заставляло/ побуждало/стимулировало так отбирать учителей и наставников, что, напротив, приводило иные направления в западной мысли к попаданию в «слепое пятно» в российском устройстве взгляда.
Хотя собственную дисциплинарную принадлежность он определял как «историк идей», его интересовала социальная история идей: не только и не столько то, что «случилось с идеями», а то, почему с ними случилось именно это. Но в определении своего дисциплинарного статуса Малиа был (как свойственно ему и в большинстве других случаев) ясен и отчетлив, что подтверждает последняя работа, где он неоднократно подчеркивает, что идеи и интеллектуальные и духовные традиции обладают собственной логикой. Социальный контекст может дать нам ответ на вопрос, почему та или иная идея или концепция оказалась объектом преимущественного внимания, почему в этот момент времени именно к ее усвоению та или иная социальная группа оказалась расположена, но редукция к социальному контексту невозможна, он способен лишь помочь ответить на вопрос, почему из множества интерпретационных развилок оказались реализованы одни и отвергнуты другие, а иные оказались вовсе не обсуждаемы, не замечены. И последний момент особенно интересен, так как дает возможность зафиксировать «границы [ситуативно] видимого», но сами эти границы определяются под воздействием идей. Если угодно, можно повторить хрестоматийное: «христианство» в каждый конкретный момент истории – иное, «христианство» Высокого Средневековья – это совсем другое «христианство», чем века Константина, но при этом само западноевропейское Высокое Средневековье невозможно понять без христианства – оно не может быть заменено какой-либо «монотеистической религией» на выбор или даже «авраамической монотеистической религией»: иная духовная традиция даст иной результат, она обладает порождающей силой и одновременно – силой исключения.
Это все, разумеется, банальности – но банальности значимые, так как из них вытекает не только правомерность, но и необходимость обратного хода – не только рассмотрения, как социальное порождает конкретные идеи и более долговременные духовные формы, но и как последние изменяют социальное и как отсутствие конкретных идей и духовных форм оказывается (уже через негативность) не дающим возможность достигнуть результата, который вроде бы является желаемым.
Последняя книга Малиа, которую он успел в основном завершить перед смертью, стала и подведением итогов, и расширением проблематики: всю жизнь проработав над изучением русской интеллектуальной истории XIX–XX вв. и восприятия России на Западе[5 - Этой теме была посвящена последняя вышедшая при его жизни книга: Malia, 1999.], в финальной работе он обратился к изучению феномена «великих революций», генеалогическому рассмотрению путей к центральному событию XX века и основному предмету его интеллектуальных занятий – русской революции – в силу изменения перспективы: то, что на протяжении почти всей его жизни было «событием в становлении», теперь обрело завершение, делаясь доступным для понимания (если исходить из гегелевской «совы Минервы», о которой напоминает Малиа во введении) или, если не соглашаться со столь радикальной трактовкой, то во всяком случае меняющим наше понимание, так как впервые перед нами предстало законченное повествование, логику которого можно обсуждать уже вне гипотетических построений. Редактор издания, видный историк-русист Теренс Эммонс, готовивший рукопись к публикации[6 - Американское издание: Malia, 2006.], внес в нее несколько существенных изменений, оговоренных в предисловии, в первую очередь это относится к двум вводным, теоретическим главам, которые оказались в результате отнесены в приложение (ради придания работе более привычного исторического облика, соответствующего и озвученным Малиа намерениям, – теоретизировать исходя из исторического исследования, а не до или поверх него), а новое введение было «составлено из рассказов самого Малиа о своих исследованиях и методике, почерпнутых из ряда докладов и книжных проспектов» (стр. 7).
Согласно Малиа, «великие революции» (в тексте, как правило, Малиа не делает оговорок, говоря о них собственно как о «революциях», но в приложении отграничивая от иных «революций», таких, как германская 1918 г. и т. п.) имеют исключительно европейское происхождение (стр. 10, на стр. 76 он, например, пишет о европейской традиции «радикальных переворотов»)[7 - Неевропейские революции случатся уже в XX веке, то есть после того, как «Запад» выйдет за любые географические ограничители и станет глобальным.], при этом средневеково-христианское в своих основаниях (стр. 17 и гл. 1), хотя в дальнейшем эти христианские истоки будут преобразованы и отброшены. «Запад» как культурное единство, «христианский мир», оформляется к 1000 г.:
«Именно в те далекие века [XI–XIII вв. – А.Т.] впервые возник европейский революционный импульс, и направлен он был не против государства, которого еще не существовало, а против церкви, являвшейся тогда единственным универсальным институтом европейского общества. […] Западная революционная традиция пройдет […] свой тысячелетний путь от религии спасения как суррогата политики до политики спасения как суррогата религии» (стр. 17, 18).
Расходясь в оценке с романтиком революции, Жюлем Мишле, он согласен с ним в суждении, вынесенном в эпиграф 1-й главы: «Революция продолжает Христианство и противоречит ему. Она есть наследница Христианства и в то же время его противница». Христианство несет в себе радикальный соблазн милленаризма, регулярно порождая ереси подобного толка и содержа в себе напряжение между Церковью незримой и церковью наличной, всегда несовершенной, и, следовательно, требующей реформы, – реформы внутренней, начинающей с себя, реформы как очищения ее от недостойных, или признания того, что большая часть называющегося «церковью», не является таковой, впала в соблазн (а не судящий впал в гордыню), и тогда малая община верных оказывается подлинной церковью, задача которой удалиться ради собственного спасения и спасения тех, кого можно спасти из оставшихся вовне, так как отказ от различения и удаления будет грехом по отношению к ним, погружая в соблазн самоуспокоения.
Но сколь бы радикальный импульс не содержался в западноевропейском средневековом христианстве с его образом «христианского мира» и философией истории, восходящей к Августину и различающей за историей Града Земного шествие Града Небесного (с орозиевской и последующих смычкой истории Града Небесного и Империи как христианского царства), это лишь одна из составляющих, необходимая, но недостаточная для революции – она образует революционный импульс, т. е. стремление к радикальной перемене[8 - Мыслимой при этом как возврат, в изначальном смысле слова revolutio (от лат. «revolvere», обращения назад, возвращения в исходную точку).] вовне, но для того, чтобы революция могла возникнуть, а не стать сектой, положить основание монашескому ордену и т. п., ей необходимо определенным образом структурированное пространство действия – (прото)государство, достаточно объединенное, чтобы иметь центральные институции, то, на что может быть направлено действие, иначе распыляющееся вовне: монарх, чья власть значительна и которой, следовательно, можно овладеть (в его лице или свергнув его), столица, которая контролирует территорию, и которую можно захватить и т. д. Без подобного устройства политического пространства невозможен эффект мультипликации – волнение в Оверни не обязательно для Бретани, но к происходящему в Париже и овернцу, и бретонцу необходимо будет в 1789 г. занять какое-то отношение; кавалеры в 1642 г. могли контролировать сколь угодно большой процент территории Английского королевства, но они не были победителями, поскольку не контролировали Лондон.
В результате Малиа строит историческую типологию революций:
(1) «революция как религиозная ересь» (ч. 1) – революция, не сознающая себя таковой, революция, ставящая задачу в старом (нового тогда еще не появилось) смысле слова – возвращения к «старым добрым нравам». Примерами этого рода революций выступают гуситы (1415–1436), лютеранская реформация (1517–1555), нидерландское восстание (1566–1609) и, как проверочный случай, неудавшаяся революция – гугеноты (1559–1598). Во всех этих случаях речь идет о не-вполне-революциях, не в последнюю очередь и потому, что «вызов иерархии светской власти» здесь оказывался производным, идейно считающимся не-необходимым и не-желательным последствием «вызова церковной иерархии» (стр. 12) – в идеальном варианте на взгляд революционеров светская власть должна была не только примкнуть к ним, но и возглавить движение, разрыв с нею никогда не мыслился окончательным, так, в ходе нидерландской революции восставшие провинции, даже детронизируя Филиппа II, не объявляют себя республикой/ами, но, после неудачных поисков другого монарха, в конце концов удовлетворяются специфической конструкцией «штатгальтера», наместника – в отсутствие монарха, наместником которого он бы являлся (стр. 151);
(2) «классические атлантические революции» (ч. 2), к которым Малиа причисляет английскую (1640–1660–1688), американскую (1776–1787) и французскую (1789–1799);
(3) и русскую революцию, помещая ее в связку с революцией 1848 г. (ч. 3).
Ключевой вопрос, который в первую очередь занимает Малиа, – это вопрос о причинах «радикализации» революции, почему шаг за шагом они становятся все более радикальными и всеохватывающими. Так, сопоставляя нидерландскую революцию с английской, Малиа пишет, что при всех сходствах радикализации препятствовали: во-первых, положение «монарха в отсутствии» – борьба оказывалась борьбой с его наместниками, но не с ним самим, он не становился ни фигурой, способной объединить противников революции, ни фокусом противостояния для революционеров; во-вторых, и это гораздо более важно, Нидерланды были «государством в становлении» – прошло еще слишком мало времени с начала строительства «новой монархии» Карлом V, чтобы эти провинции стали и восприняли себя единым целым. Борьба разворачивалась не за контроль над «единой, унифицированной государственной системой», но приняла «форму военной конфедерации (сначала из тринадцати провинций, затем из семи) против монарха в различных его званиях – как графа Фландрского или Голландского, герцога Брабантского и т. д. Поэтому борьба превратилась, в сущности, в национально-территориальную освободительную войну» (стр. 153).
Но основной водораздел, вопреки указанной выше типологии, пролегает у Малиа между революциями XVI–XVIII вв. – и Французской революцией, ставшей первой сознательной: он особо останавливается на том моменте, что английские события стали для англичан осознаваться как революция лишь в свете французских, в том числе провоцируя Бёрка на пламенное обличение Французской революции, в которой он видел опасность раздуть непогашенные угли английского напряжения. Примечательна и судьба понятия – в английском случае «революцией» («славной») назывались события 1688–1689 гг., т. е., как сформулирует в поздней классической форме Т.Б. Маколей, переход от «старой смешанной конституции» к «новой смешанной конституции», отводя 1640–1660 гг. роль «смуты» и «междуцарствия». Подробно останавливаясь на попытках установления нового режима, провозглашения Commonwealth of England, правления «святых» и Instrument of Government с последующей Реставрацией, ставшей общим желанием почти всех политических групп, Малиа пишет:
«Как объяснить столь бесславное завершение переворота, который превзошел пределы возможного в низвержении общества „двух мечей“ и „трех сословий“? Причины этого нельзя найти ни в классовой структуре, ни в экономических условиях, ни в демографической ситуации. Наиболее убедительным объяснением служит менталитет всех основных персонажей драмы. Король, парламентарии, как пресвитериане, так и индепенденты, Кромвель, офицеры „армии нового образца“ – все они мыслили в направлении возврата к надлежащему балансу национального государственного устройства, с королем, лордами, общинами и всеобщей национальной церковью. Лишь маргинальные группы левеллеров, диггеров и сектантов-милленариев думали о выходе за рамки традиционной системы координат, но не имели достаточно сил, чтобы склонить чашу весов в сторону новой радикальной отправной точки. Так „сознание“ определило „бытие“, заведя английскую революцию в тупик Содружества и Протектората» (стр. 184).
Английская революция имеет разнообразные образы религиозного будущего устройства, но не имеет образов политического: примечательно, что породив массу политических трактатов после своего начала (от Гоббса до Локка), она не имеет таковых перед собой[9 - «Английской революции […] не предшествовало ничего более подрывного, чем теологические и экклезиологические домыслы да теоретизирование по поводу природы существующей совокупности правовых норм – „старинной конституции“. Английская политическая теория возникла только по ходу и после революции в творчестве Гоббса, Гаррингтона и Локка. Кроме того, наиболее сильное влияние она оказала за пределами Англии – в Америке и Франции» (стр. 228).] – она приводит к власти радикалов, но они, обладая ресурсом разрушить имеющееся, обнаруживают, что не обладают образом желаемого политического устройства и, что гораздо важнее, подобный образ отсутствует для большинства политически активного общества, мыслящего в рамках революции-реставрации.
Если английская революция – «забытая», которая будет оценена в качестве таковой только в позднейшей перспективе революции французской, то американская, именуемая Малиа «великой удачей», осознает себя в качестве революции и в этом смысле уже принадлежит к современности. При этом ее «удаче» способствует серия обстоятельств: и то, что она одновременно оказывается «освободительной войной», иными словами, «враг» оказывается по преимуществу вынесен вовне, это не гражданская вой на, а борьба против «деспотизма» внешнего, пусть и родственного, к тому же в этом деспотизме колонисты опознают призрак «абсолютизма» (парламента, занимающего место короля, к которому первоначально апеллируют на парламент), они оказываются в своих глазах защитниками тех самых английских свобод, которые были утверждены «славной революцией», и в которых им отказывают. И, не менее важное – американским колонистам оказалось мало что потребным свергать: «старый режим» присутствовал лишь некоторыми деталями, да к тому же, как уже отмечалось, преимущественно вынесенными вовне. И тем не менее американская революция, начавшаяся как реставрация, защита прав, почитаемых стародавними, закончилась как сознательное «новое начало».
Французская революция принципиально отличается от английской тем, что носит осознанно-политический характер и, в противоположность американской, предполагает борьбу с «внутренним врагом», сила которого по меньшей мере представляется значительной, а это подталкивает к радикализации, так как шаг за шагом ощущаемая угроза справа подталкивает к опоре на массы, как единственное, что может защитить в этой ситуации, и каждый радикальный шаг отсекает возможность компромисса все с новыми силами. Однако еще более значительным выступает то обстоятельство, что «рационалистическая оболочка французского переворота отрицала понятие святости как таковое в политическом и социальном мире. А когда отрицается священное – то есть неприкосновенное, по сути своей не зависящее от человеческой воли и власти – земных ограничений для перемен не остается. Можно „свергнуть“ все что угодно, если есть средства, воля и власть. (Именно посягательством на извечно неприкосновенное так пугала французская революция Бёрка и так восхищала Маркса, и с тех пор соответствующее отношение к ней разделяет правых и левых)» (стр. 230–231).
Малиа настаивает и на другом аспекте: люди, по известному выражению Маркса, сами творят свою историю. И они творят ее, имея собственное представление не только о своих целях и задачах и о целях и задачах других людей, но и о ходе истории – понимание исторического процесса оказывается тем, что определяет поведение в конкретной ситуации. Так, неудача европейских революций 1848 г. объясняется Малиа в том числе и тем, что сами эти революции были первыми «подготовленными», т. е. к ним готовились, им противодействовали, их ждали как неизбежного, в качестве «образа» революции имея французскую. И именно потому, что действующие лица «разыгрывали» революцию как пьесу, занимая свои роли и полагая, что знают, что будет дальше (страшась или желая), результат оказался принципиально отличным от образца: аристократия и дворянство, как и высшая буржуазия, например, не пошли против существующей власти, надеясь, как то было на первом этапе французской революции, стать выгодоприобретателями от свержения режима, напротив, они сплотились вокруг «трона и алтаря», давая ресурс режиму для контрнаступления. Радикалы сразу оказались радикалами, они сразу читали реплики третьего акта, избавляя умеренных от предположения, что «врагов слева у них нет», и тем самым побуждая их сразу же быть склонными к компромиссу с теми, кто «справа», которые в итоге оказались способны не столько заключить соглашение, сколько переиграть пьесу, взяв на себя затем, в лице Луи Наполеона или Бисмарка, роль «реформаторов сверху», способность «перехватить повестку», а не уступать шаг за шагом (гл. 9). Продолжить этот пример не сложно и на другом материале – революции уже русской, в которой страх «термидора» был общим, подталкивающим к радикализации и к поиску врагов среди «своих»: все хорошо помнили уроки французской революции, когда термидорианцы выходят из якобинцев, угроза революции лежит в первую очередь внутри нее, а не в лице внешнего врага. И революция начинает «пожирать своих детей», теперь уже чтобы не быть пожранной ими, – повторение возникает из страха повторения.
Малиа в итоге приходит к выводу, что с социальными революциями в марксистском понимании мы никогда в истории не сталкиваемся – тот феномен, который известен нам, оказывается политическим событием с социальными последствиями: в целом нотабли остаются теми же самыми и до, и после французской революции, она не окажется переходом власти к буржуазии, отчасти потому, что уже до этого буржуазный строй во многом утвердился во Франции, отчасти потому, что он будет развиваться и дальше, преемственность в этом отношении, отмечает Малиа вслед за Токвилем и Фюре, куда основательнее, чем разрыв, скорее революция замедляет этот переход, отбрасывая Францию в ее развитии назад и порождая неустойчивость почти на сто лет, вплоть до утверждения режима III Республики или, возможно, вплоть уже до 1970-х годов, когда, наконец, революция и размежевание по отношению к ней окончательно уходят в прошлое.
Революции в XX веке, по Малиа, оказываются одним из путей в современность[10 - Согласно Малиа, в истории каждой нации может быть только одна великая революция – поскольку революция образует водораздел со «старым режимом» «и, как только это делается (или хотя бы предпринимается попытка сделать), тысячелетний исторический рубеж безвозвратно перейден» (стр. 326).], но, во-первых, лишь одним из путей, а во-вторых, путем слишком дорогим и, в-третьих, по меньшей мере, путем сомнительным, так как достигнутые успехи в конечном счете оказались эфемерными. Порок этих революций он видит в отсутствии этической составляющей, а если вспомнить исходные рассуждения обсуждаемого текста, то можно сказать, в не-религиозности: «провал имел место на более глубоком уровне идейно-нравственного raison d’?tre системы» (стр. 323). Парадоксальным образом по логике Малиа выходит, что революции оказывались благотворными в той мере, в какой они оказывались политическими непредумышленно, в какой их никто не собирался предпринимать и никто не желал нового политического начала. Русская революция «оказалась – хотя и в другом смысле – революцией ради конца всех революций. Она продемонстрировала, что второго, социалистического пришествия 1789 г. не будет, что в реальной современной истории существует только политическая республика и что попытка „возвысить“ ее над „государством всеобщего благосостояния“ отбрасывает общество к рабству худшему, чем при „старом режиме“» (стр. 325). Французская революция вновь оказывается водоразделом – катастрофой, в результате которого возникает новый, демократический порядок, одновременно демонстрирующий неприемлемую цену революции. С сетованием, однако, заключает Малиа, «даже после провала коммунистической попытки подняться над классическим демократическим наследием остается проблема, изначально вдохновившая социалистический проект: неравенство людей. Пока эта проблема существует – а перспектив ее исчезновения в обозримом будущем не видно, – утопическая политика тоже никуда не денется. Кто знает, какое благое эгалитарное дело в следующий раз будет извращено милленаризмом и насилием. Вечное возвращение революционного мифа в новых и неожиданных обличьях еще долго не даст нам покоя» (стр. 325). Но тем любопытнее, что «наследники трех атлантических революций» (а ими оказывается весь мир либеральной демократии) оказываются мыслимы Малиа избавленными от наследия социалистической революции, «государство всеобщего благосостояния» внезапно оказывается тем, что выступает альтернативой социалистической революции, которую отбрасывают революционеры, а не тем, что возникает после нее – и благодаря ей.
И здесь стоит вернуться к заглавию книги, оказывающемуся в противоречии с ее содержанием, поскольку из всех революций Малиа находит лишь одну, которую он готов принять, «великую удачу» американской революции, в первую очередь благодаря тому, что она в наименьшей степени является «великой революцией» в смысле борьбы со своим «старым режимом», т. е. максимального внутреннего гражданского конфликта, приводящего к рождению модерной нации: это акт конституирования новой нации, для которого ей не пришлось разделиться в себе. Прочие революции меняют историю, но вряд ли можно сказать, что они «ведут» ее от станции до станции – это образ марксистский, как и цитата, ставшая заглавием. Но стала она таковым по воле не автора, а редактора, сам же Малиа называл свою работу куда точнее, используя два варианта: «Модель и эскалация западной революции: от гуситов до большевиков. 1415-1991 гг.» и «Западный революционный процесс, 1415–1991 гг.» (стр. 7), на завершение которого и выражает осторожную надежду в последней главе.
4. Неудобная теория
[Рец.:] Ассман А. Длинная тень прошлого: Мемориальная культура и историческая политика / Пер. с нем. Б. Хлебникова. – М.: Новое литературное обозрение, 2014. – 328 с. – (серия: «Библиотека журнала „Неприкосновенный запас“») – тираж 1500 экз.
За последние два с половиной десятилетия проблематика памяти стала одной из основных в социогуманитарных исследованиях: если в начале 80-х, когда, например, Пол Хаттон начинал заниматься вопросами соотношения истории и памяти, это воспринималось как «французская наука» (собственно, и сам интерес к этим вопросам Хаттон приобрел, работая в Париже), то к началу 90-х круг исследователей существенно расширился – с сохранением «французского приоритета», а к настоящему времени по вопросам памяти, исторической политики, соотношения истории и памяти и т. п. написано столько, что можно составить особую (и довольно внушительную) библиотеку. Хотя русский перевод одной из наиболее авторитетных работ по этой проблематике, исследования Алейды Ассман, несколько задержался (немецкий оригинал вышел еще в 2006 г.), но он полезен уже потому, что сама работа является опытом подведения промежуточного итога и междисциплинарного синтеза.
В отличие от сторонников рассмотрения истории как формы памяти, Ассман устойчиво сохраняет разведение истории и памяти, следуя здесь за Хальбваксом: история влияет на память (как, например, на социальную память способно повлиять содержание научных исследований, побуждая акцентировать одни моменты, получающие ценность и наделяемые значением с точки зрения современной историографии, – и отводя на второй план или вытесняя память, не получающую научной санкции[11 - Впрочем, здесь речь идет о сложных сюжетах, которые при краткой формулировке трудно отобразить, поскольку историческая санкция действует опосредованно и в большинстве случаев чувствительными к отсутствию легитимации со стороны науки окажутся такие зоны памяти, которые испытывают недостаток легитимности совсем по другим параметрам, в то время как исторически отвергаемые воспоминания, имеющие иные источники легитимности или, по крайней мере, не вызывающие напряжения, не испытывают сколько-нибудь ощутимого давления с позиций, опирающихся на историческое знание.]), равно как память побуждает к историческому исследованию, мотивирует выбор конкретных проблем и сюжетов, однако «история» – иной способ работы с прошлым, то, что способно проблематизировать память, с чем память может быть соотнесена и оспорена.
Собственно, работа Ассман демонстрирует приверженность базовым положениям Хальбвакса – в том числе и к понятию «коллективной памяти», чему способствует упразднение категории «„ложного сознания“, которая всегда исключает из рассмотрения самого аналитика, ибо его предметом служит как мышление других, так и собственное. Понимание того, что образы и символы конструировались ранее и продолжают конструироваться теперь, не становится автоматически доказательством их „фиктивного“, „поддельного“, манипулятивного характера, ибо статус „сконструированности“ (давней или недавней) распространяется на все культурные артефакты» (стр. 28).
Опираясь в первую очередь на работы Мориса Хальбвакса, Райнхарта Козеллека и Яна Ассмана, Алейда Ассман выстраивает свою рабочую классификацию, выделяя четыре формации памяти:
(1) индивидуальная память, которая, «как конгломерат наших воспоминаний врастает в человека извне, подобно языку, который, бесспорно, является для нее важнейшей основой», в данном отношении она не может быть противопоставлена коллективной, это другая формация памяти, иной ее носитель, в отличие от памяти социальной, например, но, за исключением эфемерных и фрагментарных воспоминаний, уже на уровне автокоммуникации мы должны «социализировать» свои воспоминания, определяя, «что же именно мы помним»: «‹…› индивидуум причастен ко множеству разных „Мы“-групп и вбирает в себя различные групповые памяти, которые накладываются друг на друга и отчасти конфликтуют друг с другом. ‹…› мы в значительной мере являем собой то, о чем помним и что забываем. При этом наша память служит не только частью памяти других людей, но и частью символического универсума культурных объективаций» (стр. 61, 62);
(2) социальная память, говоря о которой, Ассман обращается в первую очередь к памяти поколенческой: «Динамика памяти общества существенно определяется сменой поколений. Каждая такая смена, происходящая примерно с тридцатилетним периодом, заметно сдвигает в обществе профиль его воспоминаний. Позиции, которые раньше господствовали или считались репрезентативными, постепенно перемещаются от центра к периферии. ‹…› Для социальной памяти характерна ограниченность временного горизонта ‹…›. Живой можно назвать ту память, которая внутри достаточно интимного контекста актуализирует прошлое в разговоре. ‹…› Если сеть живой коммуникации прерывается, исчезает и совместное воспоминание. ‹…› Временной горизонт социальной памяти не может быть расширен благодаря выходу из задаваемого живой интерактивностью или коммуникацией диапазона, который ограничен максимум тремя-четырьмя поколениями. Он похож на тень, бегущую рядом с современностью, или на горизонт, который всегда отодвигается по мере того, как пешеход идет вперед» (стр. 24, 25);
(3) политическая память, выстраивающая общую память сообщества и общее забвение, превращая «ментальные образы в иконы, а нарративы становятся мифами, важнейшими свойствами которых являются убедительная сила и мощное аффективное воздействие. Подобные мифы отделяют исторический опыт от конкретных условий его формирования, преобразуя его во вневременные повествования, которые передаются от поколения к поколению» (стр. 38);
(4) культурная память, в отличие от социальной памяти, существующей в рамках межпоколенческой коммуникации, способной к транспоколенческой коммуникации, и если последняя опирается на людей как на своих носителей, ограниченная пределами их физического существования, то культурная память, существующая в материальных носителях, потенциально не ограничена во времени. В свою очередь культурная память подразделяется на функциональную и накопительную, если первая обеспечивает повторяемость, т. е. реализуется через традиции, ритуалы и т. п. (и, соответственно, ограничена тем, что находится «в поле внимания», актуально в данный момент), то накопительная память, носителями которой служат уже не символические практики, а материальные репрезентации (книги, картины, архивы и т. д.), способна сохранять неактуальное и является ресурсом для «иной памяти» «возобновленной памяти» и для критической проверки памятуемого.
Всякая память, «как индивидуальная, так и коллективная память организована перспективно. ‹…› она вбирает в себя далеко не все подряд, а всегда проводит более или менее жесткий отбор. Поэтому забвение является конститутивным элементом как индивидуальной, так и коллективной памяти» (стр. 34). Продуктивность проделанной теоретической работы, анализирующей вслед за формациями памяти фигуры «вспоминающего» (где выделяются позиции «победителя» и «побежденного», «жертвы» и «преступника», «свидетеля» – причем последний анализ особенно интересен, демонстрируя варианты «свидетельства»), раскрывается в восьми последующих главах (с 3-й по 11-ю), следующих той же логике – от индивидуальной до культурной памяти и исторической политики, от «меня-воспоминаний» (прообразом которых служит неизбежное «мадлен») до концепции Европы как «мемориального сообщества».
Однако по мере того как работа переходит ко все более отчужденным формациям памяти, нарастает конфликт между теоретическими положениями и политическими и культурными установками, постулируемыми Ассман. Противоречие непосредственно врывается в сам текст работы: если анализируя немецкие жертвенные нарративы (гл. 7) Ассман полагает, что «проблема гетерогенности воспоминаний решается за счет их иерархизации. ‹…› На нижних уровнях нормативные решения и установления излишни; зато на национальном, политическом уровне они неизбежны» (стр. 219), однако далее, отбрасывая «неизбежность», утверждает: «‹…› подобному выстраиванию иерархии жертв, что являлось безусловно важным переходным моментом в исторической проработке исторической травмы и ее признании, следует противопоставить принцип, согласно которому каждый имеет право на память о пережитых страданиях и – в определенных рамках – на их признание» (стр. 294). Тем самым «неизбежность» из первого фрагмента оказывается «неизбежностью» определенного, переходного момента, которую далее необходимо преодолеть в некой утопической тотальности памяти, которая ограничивается вводимыми «определенными рамками»: с учетом данной оговорки, поскольку для каждой «памяти» предполагается своя рамка, устанавливаемая извне, определяющая предел допустимого признания, – сложно понять, чем это отличается от иерархизации, за исключением риторического переключения.
Алейда Ассман неоднократно повторяет: «Опасны не воспоминания, а строящиеся на них аргументы. ‹…› Сами воспоминания не подлежат никаким ограничениям, на них нельзя накладывать табу» (стр. 204), – примечательно, что это утверждение никак не аргументируется, усиливаясь лишь частотой повторения, выступая в качестве постулата. Постулата, противоречащего едва ли не всей ее собственной теоретической работе и работам предшественников (начиная с «Социальных рамок памяти» Хальбвакса и его же «Коллективной памяти»), поскольку никаких чистых «воспоминаний», которые наличествовали бы отдельно от «строящихся на них аргументов», не существует: достаточно напомнить о проективной природе памяти и о том, зачем и ради чего производится «припоминание». Здесь есть уклонение от собственных выводов, поскольку если их принять, то «правильная» картина рушится, табу и ограничения на воспоминания накладываются постоянно, и столь же постоянно эта граница движется, поскольку это граница, проводимая в настоящем, и, следовательно, возникает неудобный вопрос о «принуждении к „памяти“», контроле над воспоминаниями, соответствующими ожиданиям (и забвении неприемлемых), т. е. все то, что попадает в пространство критики, оказывается не отмененным, а замененным иным по содержанию, иными формами и техниками (само)контроля. Собственно, к этим выводам приходил и Хальбвакс, но для него, вне опыта большей части XX века, в отсутствие страха перед потерей идентичности (или отказом от нее – ради приобретения иной), страха перед «обществом» (вызывающим опасения, но не травмирующим), принятие подобных выводов не представлялось неприемлемым, в отличие от Ассман, готовой скорее пожертвовать теоретической последовательностью, чем принять ее следствия.
Часть 2. В поисках нового устройства
5. О понятии «федерализм» в социально-политических теориях М.А. Бакунина
«Федерализм» – одно из наиболее популярных слов в политическом языке XIX века. Предсказуемым образом оно оказывается и одним из наиболее многозначных, используясь и для обозначения существующей формы государственного устройства, и для указания на некий желательный идеал, местный или универсальный. При этом отношение к данному идеалу не совпадает с политической идеологией – «федерализм» одинаково выступает и как предмет стремлений для консерваторов и радикалов, и как то, чего следует всячески избегать, и каковому преобразованию надлежит всячески противодействовать.
Обращаясь к отечественным общественно-политическим спорам, для начала можно зафиксировать предсказуемое частичное наложение позиций по отношению к «федерализму» / «унитаризму» на позиции по линии разграничения «автономия» / «централизация» (см.: Чичерин, 1862; Драгоманов, 1883; о федералистских теориях среди украинофилов: Єкельчик, 2010: 131–176). И тем не менее и в отечественных, и в западноевропейских дебатах можно обнаружить, что противопоставление «автономия» / «централизация» ближе к логике противостояния консерваторов и реформаторов / радикалов, в положении, когда первые находятся в ситуации обороны – поскольку защита «автономии» близка к отстаиванию существующих особых прав (привилегий), законодательных изъятий, особых статусов территорий, в то время как «централизация» оказывается созвучна «унификации», образованию единого политического тела, как это можно видеть уже из обсуждения конституции 1792 г. в Национальном собрании (см. краткий обзор: Нольде, 1911: 227-238). Федерализм, в европейском контексте впервые ярко заявленный в спорах об устройстве Франции жирондистами (и мифологизированный Ламартином, 2013 [1847]), в 40-е годы превратился в широкую позицию, разделяемую представителями самых различных взглядов, как некая альтернатива существующим европейским формам государственного устройства, принцип свободной организации сообществ: так, например, в начале 1860-х о «федеративном начале» в истории Древней Руси писал Н.И. Костомаров (Костомаров, 1861), а А.И. Герцен в 1859 г. в «Колоколе» (№ 34), говоря о будущем славянских нардов, утверждал: «Вот потому-то я так высоко ценю федерализм. Федеральные части связаны общим делом и никто никому не принадлежит, ни Женева Берну, ни Берн Женеве» (Герцен, 1958: 22), никак ближе не определяя принципы возможной организации славянской федерации.
Если общий контекст федералистских идей чрезвычайно широк, то генеалогия взглядов Бакунина (1814–1876) на «федерализм» весьма конкретна. Впервые в поле его зрения данная проблематика целенаправленно попадает в середине 1840-х годов, когда он сближается с польской эмиграцией и стремится, с одной стороны, принять участие в «прямой деятельности», настойчиво повторяя тезис о недостаточности, исчерпанности чистого теоретизма, а с другой – взаимодействовать с польскими организациями и деятелями как представитель русского революционного движения (позиция, по крайней мере потенциально дающая ему возможность быть «на равных»). Подобное взаимодействие он естественным образом представляет в виде общего славянского действия: сблизившись с И. Лелевелем, Бакунин оказывается близок ко взглядам последнего, но говорить о значительном влиянии в данном случае не обязательно, поскольку подобное сближение представлялось наиболее логичным – в отличие от многих других польских групп[12 - Например от «аристократической» группировки, объединявшейся вокруг кн. Адама Чарторыйского, т. н. «отеля Ламбер», ориентированной в первую очередь на дипломатическое действие и мыслившей в рамках восстановления польской государственности, готовых, исходя из своего понимания «реализма», пойти ради этого на компромисс с державами, участвовавшими в разделах – надеясь достигнуть соглашения с Пруссией и/или Австрией за счет Российской империи – или в отличие от старой Централизации (до объединительного движения середины 1840-х, во многом размывшего прежние рамки), где были сильны настроения польской исключительности, утверждения ее первенствующей роли в «славянском мире» и противопоставления «Московии».]. Объединение польской эмиграции (Zjednoczenie Emigracji Polskiej), организация, созданная Лелевелем, была ориентирована на широкое демократическое движение славянских народов. О славянской федерации на основе «гминовладства» Лелевель развернуто высказывался уже с начала 1830-х, а в феврале 1848 г., в Брюсселе на митинге памяти Ш. Конарского, обращаясь к Бакунину, говорил о необходимости «федерации, или унии, или конфедерации, или соединенных штатов», долженствующих представлять из себя «искреннее братство, самую сильную опору демократии, которая защитит славян от всякой внешней опасности, соединит с народами румынским, немецким, венгерским, так как эти народы имеют одного и того же врага» (цит. по: Борисёнок, 2001: 100).
Но если «федерализм» присутствует в поле зрения Бакунина с середины 1840-х, то вплоть до 1848 г. он ведет речь преимущественно о союзе между Польшей и Россией, о возможности и необходимости общего революционного действия и т. п., как, например, в известной речи, произнесенной им в Париже на банкете 29 ноября 1847 г. в годовщину польского восстания 1847 г. Говоря от имени «нового общества, […] настоящей нации русской», Бакунин призывал к «революционному союзу между Польшей и Россией» (Бакунин, 1896: 361), заявляя:
«Я не уполномочен формально говорить вам так; но без малейшей суетной претензии я чувствую, что в эту торжественную минуту моими устами говорит вам сама нация русская. […]
Прикованные друг к другу судьбою фатальною, неизбежною, долгою и драматическою историей, которой печальные последствия мы теперь терпим, наши страны долго взаимно ненавидели одна другую. Но час примирения пробил: пора уже нашим разногласиям окончиться. […]
Пока мы оставались разделенными, мы взаимно парализовали друг друга. Ничто не сможет противиться нашему общему действию.
Поскольку война тотальна, а враг абсолютен, то вопрос вины приобретает ключевое значение, при этом он может быть решен лишь в рамках однозначного ответа на вопрос, кто начал войну: либо вина лежит на нас, либо виновен враг. Война теперь результат преступления и сама является преступлением, отсюда тот бесконечный спор о вине, который союзники постараются разрешить прямым указанием в Версальском договоре, вынуждая Германию признать свою виновность, и тем самым признать справедливость победителей.
Теперь мы находимся в ситуации, когда слова Вильсона почти оправдались – войн больше нет, «война» сама по себе стала преступлением, ее невозможно объявить, каждая из сторон проводит следствие и настаивает на признании виновной другой стороны, обвиняя ее в начале «войны», а на международном уровне говорят о «конфликтах», «столкновениях» и т. п., проводят «миротворческие операции», поскольку более невозможна и «война ради мира». «Мир» стал тотальным – но сомнительно, стал ли он безопаснее по сравнению с 1914 г., поскольку из этого состояния «мира» невозможен выход в мирное состояние.
3. Об одном из путей в современность
[Рец.:] Малиа М. Локомотивы истории: Революции и становление современного мира / Под ред. Т. Эммонса; пер. с англ. Е.С. Володиной. – М.: Политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2015. – 405 с.
«[…] до XIX в. все европейские революции начинались ненамеренно: реформаторы ставили конкретные, ограниченные цели, а потом с опозданием обнаруживали, что достичь их можно, только перевернув вверх дном весь привычный мир» (стр. 86).
Мартин Малиа, скончавшийся в 2004 г., – выдающийся американский историк-русист, автор по сей день остающейся непревзойденной интеллектуальной биографии Александра Герцена (доведенной до 1855 г.), которая уже одна дает ему полное право на величие, – никто до него и мало кто после сумел столь глубоко и одновременно изысканно-тонко передать переплетение интеллектуальных подходов и настроений, среди которых формировалась русская интеллектуальная традиция XIX века. Подобная глубина и тонкость отмечала и его последующие работы – он неизменно стремился соединить воедино внимание к индивидуальности конкретного лица и широкую интеллектуальную и социальную панораму. «Русские споры» оказывались у него одновременно и «русскими», связанными со специфической ситуацией места и времени, и включенными в общеевропейский контекст, его интересовало то, как и почему французские или немецкие идеи подвергались подобной переработке местными интеллектуалами, почему идеи и концепции, мало известные или относительно скоро забытые у себя на родине, получали в России широкое распространение. Иными словами, для него была значима не сама по себе тема рецепции или переработки – установление интеллектуальных связей и зависимостей было лишь первым шагом в его исследованиях, где, как правило, он, кстати, опирался на уже добытые результаты научных исследований своих предшественников. Вопросы, которые он предпочитал ставить и на которые пытался отвечать, были следующего порядка: что обусловливало интеллектуальную чувствительность именно к этим направлениям мысли, что заставляло/ побуждало/стимулировало так отбирать учителей и наставников, что, напротив, приводило иные направления в западной мысли к попаданию в «слепое пятно» в российском устройстве взгляда.
Хотя собственную дисциплинарную принадлежность он определял как «историк идей», его интересовала социальная история идей: не только и не столько то, что «случилось с идеями», а то, почему с ними случилось именно это. Но в определении своего дисциплинарного статуса Малиа был (как свойственно ему и в большинстве других случаев) ясен и отчетлив, что подтверждает последняя работа, где он неоднократно подчеркивает, что идеи и интеллектуальные и духовные традиции обладают собственной логикой. Социальный контекст может дать нам ответ на вопрос, почему та или иная идея или концепция оказалась объектом преимущественного внимания, почему в этот момент времени именно к ее усвоению та или иная социальная группа оказалась расположена, но редукция к социальному контексту невозможна, он способен лишь помочь ответить на вопрос, почему из множества интерпретационных развилок оказались реализованы одни и отвергнуты другие, а иные оказались вовсе не обсуждаемы, не замечены. И последний момент особенно интересен, так как дает возможность зафиксировать «границы [ситуативно] видимого», но сами эти границы определяются под воздействием идей. Если угодно, можно повторить хрестоматийное: «христианство» в каждый конкретный момент истории – иное, «христианство» Высокого Средневековья – это совсем другое «христианство», чем века Константина, но при этом само западноевропейское Высокое Средневековье невозможно понять без христианства – оно не может быть заменено какой-либо «монотеистической религией» на выбор или даже «авраамической монотеистической религией»: иная духовная традиция даст иной результат, она обладает порождающей силой и одновременно – силой исключения.
Это все, разумеется, банальности – но банальности значимые, так как из них вытекает не только правомерность, но и необходимость обратного хода – не только рассмотрения, как социальное порождает конкретные идеи и более долговременные духовные формы, но и как последние изменяют социальное и как отсутствие конкретных идей и духовных форм оказывается (уже через негативность) не дающим возможность достигнуть результата, который вроде бы является желаемым.
Последняя книга Малиа, которую он успел в основном завершить перед смертью, стала и подведением итогов, и расширением проблематики: всю жизнь проработав над изучением русской интеллектуальной истории XIX–XX вв. и восприятия России на Западе[5 - Этой теме была посвящена последняя вышедшая при его жизни книга: Malia, 1999.], в финальной работе он обратился к изучению феномена «великих революций», генеалогическому рассмотрению путей к центральному событию XX века и основному предмету его интеллектуальных занятий – русской революции – в силу изменения перспективы: то, что на протяжении почти всей его жизни было «событием в становлении», теперь обрело завершение, делаясь доступным для понимания (если исходить из гегелевской «совы Минервы», о которой напоминает Малиа во введении) или, если не соглашаться со столь радикальной трактовкой, то во всяком случае меняющим наше понимание, так как впервые перед нами предстало законченное повествование, логику которого можно обсуждать уже вне гипотетических построений. Редактор издания, видный историк-русист Теренс Эммонс, готовивший рукопись к публикации[6 - Американское издание: Malia, 2006.], внес в нее несколько существенных изменений, оговоренных в предисловии, в первую очередь это относится к двум вводным, теоретическим главам, которые оказались в результате отнесены в приложение (ради придания работе более привычного исторического облика, соответствующего и озвученным Малиа намерениям, – теоретизировать исходя из исторического исследования, а не до или поверх него), а новое введение было «составлено из рассказов самого Малиа о своих исследованиях и методике, почерпнутых из ряда докладов и книжных проспектов» (стр. 7).
Согласно Малиа, «великие революции» (в тексте, как правило, Малиа не делает оговорок, говоря о них собственно как о «революциях», но в приложении отграничивая от иных «революций», таких, как германская 1918 г. и т. п.) имеют исключительно европейское происхождение (стр. 10, на стр. 76 он, например, пишет о европейской традиции «радикальных переворотов»)[7 - Неевропейские революции случатся уже в XX веке, то есть после того, как «Запад» выйдет за любые географические ограничители и станет глобальным.], при этом средневеково-христианское в своих основаниях (стр. 17 и гл. 1), хотя в дальнейшем эти христианские истоки будут преобразованы и отброшены. «Запад» как культурное единство, «христианский мир», оформляется к 1000 г.:
«Именно в те далекие века [XI–XIII вв. – А.Т.] впервые возник европейский революционный импульс, и направлен он был не против государства, которого еще не существовало, а против церкви, являвшейся тогда единственным универсальным институтом европейского общества. […] Западная революционная традиция пройдет […] свой тысячелетний путь от религии спасения как суррогата политики до политики спасения как суррогата религии» (стр. 17, 18).
Расходясь в оценке с романтиком революции, Жюлем Мишле, он согласен с ним в суждении, вынесенном в эпиграф 1-й главы: «Революция продолжает Христианство и противоречит ему. Она есть наследница Христианства и в то же время его противница». Христианство несет в себе радикальный соблазн милленаризма, регулярно порождая ереси подобного толка и содержа в себе напряжение между Церковью незримой и церковью наличной, всегда несовершенной, и, следовательно, требующей реформы, – реформы внутренней, начинающей с себя, реформы как очищения ее от недостойных, или признания того, что большая часть называющегося «церковью», не является таковой, впала в соблазн (а не судящий впал в гордыню), и тогда малая община верных оказывается подлинной церковью, задача которой удалиться ради собственного спасения и спасения тех, кого можно спасти из оставшихся вовне, так как отказ от различения и удаления будет грехом по отношению к ним, погружая в соблазн самоуспокоения.
Но сколь бы радикальный импульс не содержался в западноевропейском средневековом христианстве с его образом «христианского мира» и философией истории, восходящей к Августину и различающей за историей Града Земного шествие Града Небесного (с орозиевской и последующих смычкой истории Града Небесного и Империи как христианского царства), это лишь одна из составляющих, необходимая, но недостаточная для революции – она образует революционный импульс, т. е. стремление к радикальной перемене[8 - Мыслимой при этом как возврат, в изначальном смысле слова revolutio (от лат. «revolvere», обращения назад, возвращения в исходную точку).] вовне, но для того, чтобы революция могла возникнуть, а не стать сектой, положить основание монашескому ордену и т. п., ей необходимо определенным образом структурированное пространство действия – (прото)государство, достаточно объединенное, чтобы иметь центральные институции, то, на что может быть направлено действие, иначе распыляющееся вовне: монарх, чья власть значительна и которой, следовательно, можно овладеть (в его лице или свергнув его), столица, которая контролирует территорию, и которую можно захватить и т. д. Без подобного устройства политического пространства невозможен эффект мультипликации – волнение в Оверни не обязательно для Бретани, но к происходящему в Париже и овернцу, и бретонцу необходимо будет в 1789 г. занять какое-то отношение; кавалеры в 1642 г. могли контролировать сколь угодно большой процент территории Английского королевства, но они не были победителями, поскольку не контролировали Лондон.
В результате Малиа строит историческую типологию революций:
(1) «революция как религиозная ересь» (ч. 1) – революция, не сознающая себя таковой, революция, ставящая задачу в старом (нового тогда еще не появилось) смысле слова – возвращения к «старым добрым нравам». Примерами этого рода революций выступают гуситы (1415–1436), лютеранская реформация (1517–1555), нидерландское восстание (1566–1609) и, как проверочный случай, неудавшаяся революция – гугеноты (1559–1598). Во всех этих случаях речь идет о не-вполне-революциях, не в последнюю очередь и потому, что «вызов иерархии светской власти» здесь оказывался производным, идейно считающимся не-необходимым и не-желательным последствием «вызова церковной иерархии» (стр. 12) – в идеальном варианте на взгляд революционеров светская власть должна была не только примкнуть к ним, но и возглавить движение, разрыв с нею никогда не мыслился окончательным, так, в ходе нидерландской революции восставшие провинции, даже детронизируя Филиппа II, не объявляют себя республикой/ами, но, после неудачных поисков другого монарха, в конце концов удовлетворяются специфической конструкцией «штатгальтера», наместника – в отсутствие монарха, наместником которого он бы являлся (стр. 151);
(2) «классические атлантические революции» (ч. 2), к которым Малиа причисляет английскую (1640–1660–1688), американскую (1776–1787) и французскую (1789–1799);
(3) и русскую революцию, помещая ее в связку с революцией 1848 г. (ч. 3).
Ключевой вопрос, который в первую очередь занимает Малиа, – это вопрос о причинах «радикализации» революции, почему шаг за шагом они становятся все более радикальными и всеохватывающими. Так, сопоставляя нидерландскую революцию с английской, Малиа пишет, что при всех сходствах радикализации препятствовали: во-первых, положение «монарха в отсутствии» – борьба оказывалась борьбой с его наместниками, но не с ним самим, он не становился ни фигурой, способной объединить противников революции, ни фокусом противостояния для революционеров; во-вторых, и это гораздо более важно, Нидерланды были «государством в становлении» – прошло еще слишком мало времени с начала строительства «новой монархии» Карлом V, чтобы эти провинции стали и восприняли себя единым целым. Борьба разворачивалась не за контроль над «единой, унифицированной государственной системой», но приняла «форму военной конфедерации (сначала из тринадцати провинций, затем из семи) против монарха в различных его званиях – как графа Фландрского или Голландского, герцога Брабантского и т. д. Поэтому борьба превратилась, в сущности, в национально-территориальную освободительную войну» (стр. 153).
Но основной водораздел, вопреки указанной выше типологии, пролегает у Малиа между революциями XVI–XVIII вв. – и Французской революцией, ставшей первой сознательной: он особо останавливается на том моменте, что английские события стали для англичан осознаваться как революция лишь в свете французских, в том числе провоцируя Бёрка на пламенное обличение Французской революции, в которой он видел опасность раздуть непогашенные угли английского напряжения. Примечательна и судьба понятия – в английском случае «революцией» («славной») назывались события 1688–1689 гг., т. е., как сформулирует в поздней классической форме Т.Б. Маколей, переход от «старой смешанной конституции» к «новой смешанной конституции», отводя 1640–1660 гг. роль «смуты» и «междуцарствия». Подробно останавливаясь на попытках установления нового режима, провозглашения Commonwealth of England, правления «святых» и Instrument of Government с последующей Реставрацией, ставшей общим желанием почти всех политических групп, Малиа пишет:
«Как объяснить столь бесславное завершение переворота, который превзошел пределы возможного в низвержении общества „двух мечей“ и „трех сословий“? Причины этого нельзя найти ни в классовой структуре, ни в экономических условиях, ни в демографической ситуации. Наиболее убедительным объяснением служит менталитет всех основных персонажей драмы. Король, парламентарии, как пресвитериане, так и индепенденты, Кромвель, офицеры „армии нового образца“ – все они мыслили в направлении возврата к надлежащему балансу национального государственного устройства, с королем, лордами, общинами и всеобщей национальной церковью. Лишь маргинальные группы левеллеров, диггеров и сектантов-милленариев думали о выходе за рамки традиционной системы координат, но не имели достаточно сил, чтобы склонить чашу весов в сторону новой радикальной отправной точки. Так „сознание“ определило „бытие“, заведя английскую революцию в тупик Содружества и Протектората» (стр. 184).
Английская революция имеет разнообразные образы религиозного будущего устройства, но не имеет образов политического: примечательно, что породив массу политических трактатов после своего начала (от Гоббса до Локка), она не имеет таковых перед собой[9 - «Английской революции […] не предшествовало ничего более подрывного, чем теологические и экклезиологические домыслы да теоретизирование по поводу природы существующей совокупности правовых норм – „старинной конституции“. Английская политическая теория возникла только по ходу и после революции в творчестве Гоббса, Гаррингтона и Локка. Кроме того, наиболее сильное влияние она оказала за пределами Англии – в Америке и Франции» (стр. 228).] – она приводит к власти радикалов, но они, обладая ресурсом разрушить имеющееся, обнаруживают, что не обладают образом желаемого политического устройства и, что гораздо важнее, подобный образ отсутствует для большинства политически активного общества, мыслящего в рамках революции-реставрации.
Если английская революция – «забытая», которая будет оценена в качестве таковой только в позднейшей перспективе революции французской, то американская, именуемая Малиа «великой удачей», осознает себя в качестве революции и в этом смысле уже принадлежит к современности. При этом ее «удаче» способствует серия обстоятельств: и то, что она одновременно оказывается «освободительной войной», иными словами, «враг» оказывается по преимуществу вынесен вовне, это не гражданская вой на, а борьба против «деспотизма» внешнего, пусть и родственного, к тому же в этом деспотизме колонисты опознают призрак «абсолютизма» (парламента, занимающего место короля, к которому первоначально апеллируют на парламент), они оказываются в своих глазах защитниками тех самых английских свобод, которые были утверждены «славной революцией», и в которых им отказывают. И, не менее важное – американским колонистам оказалось мало что потребным свергать: «старый режим» присутствовал лишь некоторыми деталями, да к тому же, как уже отмечалось, преимущественно вынесенными вовне. И тем не менее американская революция, начавшаяся как реставрация, защита прав, почитаемых стародавними, закончилась как сознательное «новое начало».
Французская революция принципиально отличается от английской тем, что носит осознанно-политический характер и, в противоположность американской, предполагает борьбу с «внутренним врагом», сила которого по меньшей мере представляется значительной, а это подталкивает к радикализации, так как шаг за шагом ощущаемая угроза справа подталкивает к опоре на массы, как единственное, что может защитить в этой ситуации, и каждый радикальный шаг отсекает возможность компромисса все с новыми силами. Однако еще более значительным выступает то обстоятельство, что «рационалистическая оболочка французского переворота отрицала понятие святости как таковое в политическом и социальном мире. А когда отрицается священное – то есть неприкосновенное, по сути своей не зависящее от человеческой воли и власти – земных ограничений для перемен не остается. Можно „свергнуть“ все что угодно, если есть средства, воля и власть. (Именно посягательством на извечно неприкосновенное так пугала французская революция Бёрка и так восхищала Маркса, и с тех пор соответствующее отношение к ней разделяет правых и левых)» (стр. 230–231).
Малиа настаивает и на другом аспекте: люди, по известному выражению Маркса, сами творят свою историю. И они творят ее, имея собственное представление не только о своих целях и задачах и о целях и задачах других людей, но и о ходе истории – понимание исторического процесса оказывается тем, что определяет поведение в конкретной ситуации. Так, неудача европейских революций 1848 г. объясняется Малиа в том числе и тем, что сами эти революции были первыми «подготовленными», т. е. к ним готовились, им противодействовали, их ждали как неизбежного, в качестве «образа» революции имея французскую. И именно потому, что действующие лица «разыгрывали» революцию как пьесу, занимая свои роли и полагая, что знают, что будет дальше (страшась или желая), результат оказался принципиально отличным от образца: аристократия и дворянство, как и высшая буржуазия, например, не пошли против существующей власти, надеясь, как то было на первом этапе французской революции, стать выгодоприобретателями от свержения режима, напротив, они сплотились вокруг «трона и алтаря», давая ресурс режиму для контрнаступления. Радикалы сразу оказались радикалами, они сразу читали реплики третьего акта, избавляя умеренных от предположения, что «врагов слева у них нет», и тем самым побуждая их сразу же быть склонными к компромиссу с теми, кто «справа», которые в итоге оказались способны не столько заключить соглашение, сколько переиграть пьесу, взяв на себя затем, в лице Луи Наполеона или Бисмарка, роль «реформаторов сверху», способность «перехватить повестку», а не уступать шаг за шагом (гл. 9). Продолжить этот пример не сложно и на другом материале – революции уже русской, в которой страх «термидора» был общим, подталкивающим к радикализации и к поиску врагов среди «своих»: все хорошо помнили уроки французской революции, когда термидорианцы выходят из якобинцев, угроза революции лежит в первую очередь внутри нее, а не в лице внешнего врага. И революция начинает «пожирать своих детей», теперь уже чтобы не быть пожранной ими, – повторение возникает из страха повторения.
Малиа в итоге приходит к выводу, что с социальными революциями в марксистском понимании мы никогда в истории не сталкиваемся – тот феномен, который известен нам, оказывается политическим событием с социальными последствиями: в целом нотабли остаются теми же самыми и до, и после французской революции, она не окажется переходом власти к буржуазии, отчасти потому, что уже до этого буржуазный строй во многом утвердился во Франции, отчасти потому, что он будет развиваться и дальше, преемственность в этом отношении, отмечает Малиа вслед за Токвилем и Фюре, куда основательнее, чем разрыв, скорее революция замедляет этот переход, отбрасывая Францию в ее развитии назад и порождая неустойчивость почти на сто лет, вплоть до утверждения режима III Республики или, возможно, вплоть уже до 1970-х годов, когда, наконец, революция и размежевание по отношению к ней окончательно уходят в прошлое.
Революции в XX веке, по Малиа, оказываются одним из путей в современность[10 - Согласно Малиа, в истории каждой нации может быть только одна великая революция – поскольку революция образует водораздел со «старым режимом» «и, как только это делается (или хотя бы предпринимается попытка сделать), тысячелетний исторический рубеж безвозвратно перейден» (стр. 326).], но, во-первых, лишь одним из путей, а во-вторых, путем слишком дорогим и, в-третьих, по меньшей мере, путем сомнительным, так как достигнутые успехи в конечном счете оказались эфемерными. Порок этих революций он видит в отсутствии этической составляющей, а если вспомнить исходные рассуждения обсуждаемого текста, то можно сказать, в не-религиозности: «провал имел место на более глубоком уровне идейно-нравственного raison d’?tre системы» (стр. 323). Парадоксальным образом по логике Малиа выходит, что революции оказывались благотворными в той мере, в какой они оказывались политическими непредумышленно, в какой их никто не собирался предпринимать и никто не желал нового политического начала. Русская революция «оказалась – хотя и в другом смысле – революцией ради конца всех революций. Она продемонстрировала, что второго, социалистического пришествия 1789 г. не будет, что в реальной современной истории существует только политическая республика и что попытка „возвысить“ ее над „государством всеобщего благосостояния“ отбрасывает общество к рабству худшему, чем при „старом режиме“» (стр. 325). Французская революция вновь оказывается водоразделом – катастрофой, в результате которого возникает новый, демократический порядок, одновременно демонстрирующий неприемлемую цену революции. С сетованием, однако, заключает Малиа, «даже после провала коммунистической попытки подняться над классическим демократическим наследием остается проблема, изначально вдохновившая социалистический проект: неравенство людей. Пока эта проблема существует – а перспектив ее исчезновения в обозримом будущем не видно, – утопическая политика тоже никуда не денется. Кто знает, какое благое эгалитарное дело в следующий раз будет извращено милленаризмом и насилием. Вечное возвращение революционного мифа в новых и неожиданных обличьях еще долго не даст нам покоя» (стр. 325). Но тем любопытнее, что «наследники трех атлантических революций» (а ими оказывается весь мир либеральной демократии) оказываются мыслимы Малиа избавленными от наследия социалистической революции, «государство всеобщего благосостояния» внезапно оказывается тем, что выступает альтернативой социалистической революции, которую отбрасывают революционеры, а не тем, что возникает после нее – и благодаря ей.
И здесь стоит вернуться к заглавию книги, оказывающемуся в противоречии с ее содержанием, поскольку из всех революций Малиа находит лишь одну, которую он готов принять, «великую удачу» американской революции, в первую очередь благодаря тому, что она в наименьшей степени является «великой революцией» в смысле борьбы со своим «старым режимом», т. е. максимального внутреннего гражданского конфликта, приводящего к рождению модерной нации: это акт конституирования новой нации, для которого ей не пришлось разделиться в себе. Прочие революции меняют историю, но вряд ли можно сказать, что они «ведут» ее от станции до станции – это образ марксистский, как и цитата, ставшая заглавием. Но стала она таковым по воле не автора, а редактора, сам же Малиа называл свою работу куда точнее, используя два варианта: «Модель и эскалация западной революции: от гуситов до большевиков. 1415-1991 гг.» и «Западный революционный процесс, 1415–1991 гг.» (стр. 7), на завершение которого и выражает осторожную надежду в последней главе.
4. Неудобная теория
[Рец.:] Ассман А. Длинная тень прошлого: Мемориальная культура и историческая политика / Пер. с нем. Б. Хлебникова. – М.: Новое литературное обозрение, 2014. – 328 с. – (серия: «Библиотека журнала „Неприкосновенный запас“») – тираж 1500 экз.
За последние два с половиной десятилетия проблематика памяти стала одной из основных в социогуманитарных исследованиях: если в начале 80-х, когда, например, Пол Хаттон начинал заниматься вопросами соотношения истории и памяти, это воспринималось как «французская наука» (собственно, и сам интерес к этим вопросам Хаттон приобрел, работая в Париже), то к началу 90-х круг исследователей существенно расширился – с сохранением «французского приоритета», а к настоящему времени по вопросам памяти, исторической политики, соотношения истории и памяти и т. п. написано столько, что можно составить особую (и довольно внушительную) библиотеку. Хотя русский перевод одной из наиболее авторитетных работ по этой проблематике, исследования Алейды Ассман, несколько задержался (немецкий оригинал вышел еще в 2006 г.), но он полезен уже потому, что сама работа является опытом подведения промежуточного итога и междисциплинарного синтеза.
В отличие от сторонников рассмотрения истории как формы памяти, Ассман устойчиво сохраняет разведение истории и памяти, следуя здесь за Хальбваксом: история влияет на память (как, например, на социальную память способно повлиять содержание научных исследований, побуждая акцентировать одни моменты, получающие ценность и наделяемые значением с точки зрения современной историографии, – и отводя на второй план или вытесняя память, не получающую научной санкции[11 - Впрочем, здесь речь идет о сложных сюжетах, которые при краткой формулировке трудно отобразить, поскольку историческая санкция действует опосредованно и в большинстве случаев чувствительными к отсутствию легитимации со стороны науки окажутся такие зоны памяти, которые испытывают недостаток легитимности совсем по другим параметрам, в то время как исторически отвергаемые воспоминания, имеющие иные источники легитимности или, по крайней мере, не вызывающие напряжения, не испытывают сколько-нибудь ощутимого давления с позиций, опирающихся на историческое знание.]), равно как память побуждает к историческому исследованию, мотивирует выбор конкретных проблем и сюжетов, однако «история» – иной способ работы с прошлым, то, что способно проблематизировать память, с чем память может быть соотнесена и оспорена.
Собственно, работа Ассман демонстрирует приверженность базовым положениям Хальбвакса – в том числе и к понятию «коллективной памяти», чему способствует упразднение категории «„ложного сознания“, которая всегда исключает из рассмотрения самого аналитика, ибо его предметом служит как мышление других, так и собственное. Понимание того, что образы и символы конструировались ранее и продолжают конструироваться теперь, не становится автоматически доказательством их „фиктивного“, „поддельного“, манипулятивного характера, ибо статус „сконструированности“ (давней или недавней) распространяется на все культурные артефакты» (стр. 28).
Опираясь в первую очередь на работы Мориса Хальбвакса, Райнхарта Козеллека и Яна Ассмана, Алейда Ассман выстраивает свою рабочую классификацию, выделяя четыре формации памяти:
(1) индивидуальная память, которая, «как конгломерат наших воспоминаний врастает в человека извне, подобно языку, который, бесспорно, является для нее важнейшей основой», в данном отношении она не может быть противопоставлена коллективной, это другая формация памяти, иной ее носитель, в отличие от памяти социальной, например, но, за исключением эфемерных и фрагментарных воспоминаний, уже на уровне автокоммуникации мы должны «социализировать» свои воспоминания, определяя, «что же именно мы помним»: «‹…› индивидуум причастен ко множеству разных „Мы“-групп и вбирает в себя различные групповые памяти, которые накладываются друг на друга и отчасти конфликтуют друг с другом. ‹…› мы в значительной мере являем собой то, о чем помним и что забываем. При этом наша память служит не только частью памяти других людей, но и частью символического универсума культурных объективаций» (стр. 61, 62);
(2) социальная память, говоря о которой, Ассман обращается в первую очередь к памяти поколенческой: «Динамика памяти общества существенно определяется сменой поколений. Каждая такая смена, происходящая примерно с тридцатилетним периодом, заметно сдвигает в обществе профиль его воспоминаний. Позиции, которые раньше господствовали или считались репрезентативными, постепенно перемещаются от центра к периферии. ‹…› Для социальной памяти характерна ограниченность временного горизонта ‹…›. Живой можно назвать ту память, которая внутри достаточно интимного контекста актуализирует прошлое в разговоре. ‹…› Если сеть живой коммуникации прерывается, исчезает и совместное воспоминание. ‹…› Временной горизонт социальной памяти не может быть расширен благодаря выходу из задаваемого живой интерактивностью или коммуникацией диапазона, который ограничен максимум тремя-четырьмя поколениями. Он похож на тень, бегущую рядом с современностью, или на горизонт, который всегда отодвигается по мере того, как пешеход идет вперед» (стр. 24, 25);
(3) политическая память, выстраивающая общую память сообщества и общее забвение, превращая «ментальные образы в иконы, а нарративы становятся мифами, важнейшими свойствами которых являются убедительная сила и мощное аффективное воздействие. Подобные мифы отделяют исторический опыт от конкретных условий его формирования, преобразуя его во вневременные повествования, которые передаются от поколения к поколению» (стр. 38);
(4) культурная память, в отличие от социальной памяти, существующей в рамках межпоколенческой коммуникации, способной к транспоколенческой коммуникации, и если последняя опирается на людей как на своих носителей, ограниченная пределами их физического существования, то культурная память, существующая в материальных носителях, потенциально не ограничена во времени. В свою очередь культурная память подразделяется на функциональную и накопительную, если первая обеспечивает повторяемость, т. е. реализуется через традиции, ритуалы и т. п. (и, соответственно, ограничена тем, что находится «в поле внимания», актуально в данный момент), то накопительная память, носителями которой служат уже не символические практики, а материальные репрезентации (книги, картины, архивы и т. д.), способна сохранять неактуальное и является ресурсом для «иной памяти» «возобновленной памяти» и для критической проверки памятуемого.
Всякая память, «как индивидуальная, так и коллективная память организована перспективно. ‹…› она вбирает в себя далеко не все подряд, а всегда проводит более или менее жесткий отбор. Поэтому забвение является конститутивным элементом как индивидуальной, так и коллективной памяти» (стр. 34). Продуктивность проделанной теоретической работы, анализирующей вслед за формациями памяти фигуры «вспоминающего» (где выделяются позиции «победителя» и «побежденного», «жертвы» и «преступника», «свидетеля» – причем последний анализ особенно интересен, демонстрируя варианты «свидетельства»), раскрывается в восьми последующих главах (с 3-й по 11-ю), следующих той же логике – от индивидуальной до культурной памяти и исторической политики, от «меня-воспоминаний» (прообразом которых служит неизбежное «мадлен») до концепции Европы как «мемориального сообщества».
Однако по мере того как работа переходит ко все более отчужденным формациям памяти, нарастает конфликт между теоретическими положениями и политическими и культурными установками, постулируемыми Ассман. Противоречие непосредственно врывается в сам текст работы: если анализируя немецкие жертвенные нарративы (гл. 7) Ассман полагает, что «проблема гетерогенности воспоминаний решается за счет их иерархизации. ‹…› На нижних уровнях нормативные решения и установления излишни; зато на национальном, политическом уровне они неизбежны» (стр. 219), однако далее, отбрасывая «неизбежность», утверждает: «‹…› подобному выстраиванию иерархии жертв, что являлось безусловно важным переходным моментом в исторической проработке исторической травмы и ее признании, следует противопоставить принцип, согласно которому каждый имеет право на память о пережитых страданиях и – в определенных рамках – на их признание» (стр. 294). Тем самым «неизбежность» из первого фрагмента оказывается «неизбежностью» определенного, переходного момента, которую далее необходимо преодолеть в некой утопической тотальности памяти, которая ограничивается вводимыми «определенными рамками»: с учетом данной оговорки, поскольку для каждой «памяти» предполагается своя рамка, устанавливаемая извне, определяющая предел допустимого признания, – сложно понять, чем это отличается от иерархизации, за исключением риторического переключения.
Алейда Ассман неоднократно повторяет: «Опасны не воспоминания, а строящиеся на них аргументы. ‹…› Сами воспоминания не подлежат никаким ограничениям, на них нельзя накладывать табу» (стр. 204), – примечательно, что это утверждение никак не аргументируется, усиливаясь лишь частотой повторения, выступая в качестве постулата. Постулата, противоречащего едва ли не всей ее собственной теоретической работе и работам предшественников (начиная с «Социальных рамок памяти» Хальбвакса и его же «Коллективной памяти»), поскольку никаких чистых «воспоминаний», которые наличествовали бы отдельно от «строящихся на них аргументов», не существует: достаточно напомнить о проективной природе памяти и о том, зачем и ради чего производится «припоминание». Здесь есть уклонение от собственных выводов, поскольку если их принять, то «правильная» картина рушится, табу и ограничения на воспоминания накладываются постоянно, и столь же постоянно эта граница движется, поскольку это граница, проводимая в настоящем, и, следовательно, возникает неудобный вопрос о «принуждении к „памяти“», контроле над воспоминаниями, соответствующими ожиданиям (и забвении неприемлемых), т. е. все то, что попадает в пространство критики, оказывается не отмененным, а замененным иным по содержанию, иными формами и техниками (само)контроля. Собственно, к этим выводам приходил и Хальбвакс, но для него, вне опыта большей части XX века, в отсутствие страха перед потерей идентичности (или отказом от нее – ради приобретения иной), страха перед «обществом» (вызывающим опасения, но не травмирующим), принятие подобных выводов не представлялось неприемлемым, в отличие от Ассман, готовой скорее пожертвовать теоретической последовательностью, чем принять ее следствия.
Часть 2. В поисках нового устройства
5. О понятии «федерализм» в социально-политических теориях М.А. Бакунина
«Федерализм» – одно из наиболее популярных слов в политическом языке XIX века. Предсказуемым образом оно оказывается и одним из наиболее многозначных, используясь и для обозначения существующей формы государственного устройства, и для указания на некий желательный идеал, местный или универсальный. При этом отношение к данному идеалу не совпадает с политической идеологией – «федерализм» одинаково выступает и как предмет стремлений для консерваторов и радикалов, и как то, чего следует всячески избегать, и каковому преобразованию надлежит всячески противодействовать.
Обращаясь к отечественным общественно-политическим спорам, для начала можно зафиксировать предсказуемое частичное наложение позиций по отношению к «федерализму» / «унитаризму» на позиции по линии разграничения «автономия» / «централизация» (см.: Чичерин, 1862; Драгоманов, 1883; о федералистских теориях среди украинофилов: Єкельчик, 2010: 131–176). И тем не менее и в отечественных, и в западноевропейских дебатах можно обнаружить, что противопоставление «автономия» / «централизация» ближе к логике противостояния консерваторов и реформаторов / радикалов, в положении, когда первые находятся в ситуации обороны – поскольку защита «автономии» близка к отстаиванию существующих особых прав (привилегий), законодательных изъятий, особых статусов территорий, в то время как «централизация» оказывается созвучна «унификации», образованию единого политического тела, как это можно видеть уже из обсуждения конституции 1792 г. в Национальном собрании (см. краткий обзор: Нольде, 1911: 227-238). Федерализм, в европейском контексте впервые ярко заявленный в спорах об устройстве Франции жирондистами (и мифологизированный Ламартином, 2013 [1847]), в 40-е годы превратился в широкую позицию, разделяемую представителями самых различных взглядов, как некая альтернатива существующим европейским формам государственного устройства, принцип свободной организации сообществ: так, например, в начале 1860-х о «федеративном начале» в истории Древней Руси писал Н.И. Костомаров (Костомаров, 1861), а А.И. Герцен в 1859 г. в «Колоколе» (№ 34), говоря о будущем славянских нардов, утверждал: «Вот потому-то я так высоко ценю федерализм. Федеральные части связаны общим делом и никто никому не принадлежит, ни Женева Берну, ни Берн Женеве» (Герцен, 1958: 22), никак ближе не определяя принципы возможной организации славянской федерации.
Если общий контекст федералистских идей чрезвычайно широк, то генеалогия взглядов Бакунина (1814–1876) на «федерализм» весьма конкретна. Впервые в поле его зрения данная проблематика целенаправленно попадает в середине 1840-х годов, когда он сближается с польской эмиграцией и стремится, с одной стороны, принять участие в «прямой деятельности», настойчиво повторяя тезис о недостаточности, исчерпанности чистого теоретизма, а с другой – взаимодействовать с польскими организациями и деятелями как представитель русского революционного движения (позиция, по крайней мере потенциально дающая ему возможность быть «на равных»). Подобное взаимодействие он естественным образом представляет в виде общего славянского действия: сблизившись с И. Лелевелем, Бакунин оказывается близок ко взглядам последнего, но говорить о значительном влиянии в данном случае не обязательно, поскольку подобное сближение представлялось наиболее логичным – в отличие от многих других польских групп[12 - Например от «аристократической» группировки, объединявшейся вокруг кн. Адама Чарторыйского, т. н. «отеля Ламбер», ориентированной в первую очередь на дипломатическое действие и мыслившей в рамках восстановления польской государственности, готовых, исходя из своего понимания «реализма», пойти ради этого на компромисс с державами, участвовавшими в разделах – надеясь достигнуть соглашения с Пруссией и/или Австрией за счет Российской империи – или в отличие от старой Централизации (до объединительного движения середины 1840-х, во многом размывшего прежние рамки), где были сильны настроения польской исключительности, утверждения ее первенствующей роли в «славянском мире» и противопоставления «Московии».]. Объединение польской эмиграции (Zjednoczenie Emigracji Polskiej), организация, созданная Лелевелем, была ориентирована на широкое демократическое движение славянских народов. О славянской федерации на основе «гминовладства» Лелевель развернуто высказывался уже с начала 1830-х, а в феврале 1848 г., в Брюсселе на митинге памяти Ш. Конарского, обращаясь к Бакунину, говорил о необходимости «федерации, или унии, или конфедерации, или соединенных штатов», долженствующих представлять из себя «искреннее братство, самую сильную опору демократии, которая защитит славян от всякой внешней опасности, соединит с народами румынским, немецким, венгерским, так как эти народы имеют одного и того же врага» (цит. по: Борисёнок, 2001: 100).
Но если «федерализм» присутствует в поле зрения Бакунина с середины 1840-х, то вплоть до 1848 г. он ведет речь преимущественно о союзе между Польшей и Россией, о возможности и необходимости общего революционного действия и т. п., как, например, в известной речи, произнесенной им в Париже на банкете 29 ноября 1847 г. в годовщину польского восстания 1847 г. Говоря от имени «нового общества, […] настоящей нации русской», Бакунин призывал к «революционному союзу между Польшей и Россией» (Бакунин, 1896: 361), заявляя:
«Я не уполномочен формально говорить вам так; но без малейшей суетной претензии я чувствую, что в эту торжественную минуту моими устами говорит вам сама нация русская. […]
Прикованные друг к другу судьбою фатальною, неизбежною, долгою и драматическою историей, которой печальные последствия мы теперь терпим, наши страны долго взаимно ненавидели одна другую. Но час примирения пробил: пора уже нашим разногласиям окончиться. […]
Пока мы оставались разделенными, мы взаимно парализовали друг друга. Ничто не сможет противиться нашему общему действию.