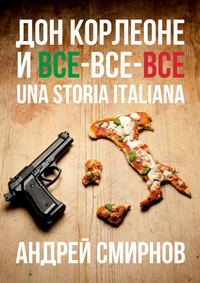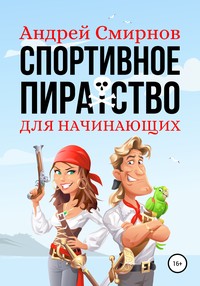Итальянский роман
Никто не знал о нравах и привычках янки больше, чем хитроумный Джорджини. На его доме сразу же появилась вывеска: «Только у нас! Настоящие хот-доги и всегда свежая Кока-кола!» Утомлённые монтепульчано и ламбруско заокеанские предприниматели слетались на неё как мотыльки. И попадали в ловушку. К их столику подходил статный тридцатилетний мужчина с внешностью героя-любовника из голливудского фильма и застенчиво говорил:
– Здравствуйте, меня зовут Эмилио. Я инструктор по горным лыжам. Вы не посмотрите мою коллекцию модной одежды?
– Эмилио! – делал страшные глаза стоявший рядом Джорджини. – Чему я тебя учил? Ну-ка представься полностью и расскажи о себе как положено!
– Пуччи, – поспешно исправлялся тот. – Эмилио Пуччи. Маркиз Ди Борсенто. Но вы не обращайте внимания, это у меня не специально так получилось. Семья моя, вообще-то, скромно жила, всю историю в коммуналке мыкалась. Одну половину Флоренции фамилия Медичи – слыхали, может, про них? – занимала, а вторую – мы, Пуччи. Ну ничего, хорошо жили, дружно. В тесноте, да не в обиде. Сам-то я в юности шалопаем был, всё больше на лыжах катался. Нет, не здесь. Какой же в Тоскане снег? У вас, в Орегоне. Ну а чтоб два раза не ездить, заодно там научную степень по социологии получил. С лыжами вот только не очень удачно вышло. В тридцать шестом году на Олимпиаде за Италию выступал, но ничего не выиграл. Расстроился, понятное дело. С горя решил под парусом на яхте поплавать. И увлёкся, знаете ли. Сам не заметил, как в кругосветку сходил. Вернулся, а тут война. Ну я – добровольцем, само собой. Торпедоносец, потом истребитель. Только подучиться слегка пришлось. Да нет, летать-то я и раньше умел. Вторая научная степень, по политологии. Ну, чтоб время не терять. Потом повоевал немножко. Ничего особенного, три креста, две медали за отвагу. В сорок третьем в госпиталь угодил. Выхожу, а Муссолини нет, с Союзниками перемирие, немцы итальянских солдат ловят и в Германию депортируют. Я огородами, огородами – и домой, во Флоренцию. Лежу, болею ещё. Тут раз – письмо. От Эдды, приятельницы моей. Ну, дочка Муссолини которая. Пишет: «Немцы меня заложницей держат, не дают видеться с детьми, угрожают. Спаси-помоги!» Прыгаю в машину, мчусь в Мюнхен, похищаю Эдду, похищаю детей, вывожу всех в Швейцарию. Она такая: «Мужа моего забыли, он в Вероне арестованный сидит. Поезжай, скажи папе и Гитлеру, что если его не отпустят, – всем расскажу, какие они плохие!» Делать нечего, опять прыгаю в машину, еду в Италию. Тут из кустов – Гестапо. Меня в карцер и пытать. Куда, мол, Эдду и прилагающиеся к ней секретные документы девал? Девять месяцев терпел, потом чувствую – не могу больше. Расколюсь. От греха подальше из тюрьмы сразу же сбежал, обратно в Швейцарию пробрался, устроился лыжным инструктором. Вот с тех пор так и живу. А в свободное время ещё немножко шью. Ну так как? Посмотрите мою коллекцию?
Когда его американским собеседникам удавалось вновь овладеть мускулатурой нижней челюсти и закрыть рот, они сразу же открывали чековые книжки. Благо, дизайнером Пуччи действительно был – по всегдашнему своему обыкновению – весьма талантливым.
В общем, Джованни Джорджини не просто нашёл новый рынок сбыта. Он стал делателем модельеров. Первым догадался, что продавать нужно не столько платья и костюмы, сколько стоящие за ними имя и историю. Даже не так: вместе с одеждой нужно продавать – в хорошем смысле – саму Италию.
Изобретение Джорджини, названное по привычке стянутым у неизменных французов термином moda-boutique, стало промежуточным звеном между высокой модой для миллионеров и традиционными безымянными домашними швейными мастерскими. У первой оно позаимствовало лёгкий флёр роскоши, у вторых – мелкосерийный способ производства и копеечную стоимость рабочей силы. В результате цены хотя и оставались высокими, но были уже вполне доступны американскому верхне-среднему классу, для завоевания симпатий – и денег – которого вся бизнес-конструкция и была предназначена.
Всё это привело к тому, что к концу 50-х годов война за звание столицы моды завершилась разделом сфер влияния.
Во Флоренции орудовала бутиковая банда Джорджини.
Ленивый и не воевавший толком Рим, благодаря идиллическому образу Италии во всё той же Америке, получил неожиданное подкрепление от кинематографа. Одри Хепбёрн задорно лупила полицейского гитарой по голове в «Римских каникулах», Анита Экберг уже приступила к тренировкам перед историческим заплывом в Фонтане ди Треви в «Сладкой жизни» Феллини. Поскольку же Вечный город в массовом сознании иностранцев являл собой единственный и неоспоримый символ настоящей дольче виты, тамошние дома haute couture наконец-то получили возможность на равных сражаться с французами за кошельки кинозвёзд и их подражательниц. Мало того, им удалось одним махом существенно расширить платёжеспособную клиентуру. Два храбрых портняжки с римской улицы Барберини задались вопросом: а почему это высокая мода должна быть только для женщин? С целью устранения гендерного неравенства они впервые в итальянской истории выпустили на подиум манекенщиков мужского пола. Все ахнули от удивления, а нью-йоркский журнал Life разразился хвалебной статьёй: «Это как французский Кристиан Диор, только для мужиков!» Отцы-основатели новой марки никак не могли решить, чью фамилию использовать в её названии, а потому расстелили перед собой географическую карту, закрыли глаза и ткнули пальцем в первое попавшееся место. Палец упёрся в хорватский архипелаг Бриони.
А вот изначальные поджигатели войны, промышленные Турин и Милан, привлекавшие значительно меньший поток туристов и кинематографистов, на первый взгляд, остались не у дел. Однако во втором послевоенном десятилетии Италия вступила в период экономического бума. Объём национального экспорта – в том числе благодаря возросшему спросу на итальянскую одежду – вырос многократно. Росли зарплаты, увеличивались возможности. Хотя одеваться в Pucci и Brioni подавляющее большинство итальянцев позволить себе, разумеется, не могло. Около восьмидесяти процентов населения страны всё ещё предпочитало – вынуждено – пользоваться услугами безымянных домашних портных. Вместе с тем, точно так же как американцы были очарованы Италией, итальянцы, в свою очередь, были очарованы Америкой. Tu vuò fà l’americano – «Ты хочешь быть американцем» – знаменитая песня 1956 года в полной мере отражала господствующие умонастроения. А что делали американцы в перерывах между танцеванием рок-н-ролла, игрой в бейсбол и курением «Кэмела»? Правильно. Носили итальянскую одежду. Короче говоря, Соединённые Штаты заразили Италию модой на итальянскую моду. Внутренний рынок созрел и был готов к потреблению.
И с самого начала 60-х годов во всех уголках страны граждане стали подвергаться внезапным атакам дюжих молодчиков, вооружённых линейками, портновскими метрами и штангенциркулями. Это бывшие агенты «Нацмоднадзора» и «Италцентромода» объединили усилия по созданию стандартной размерной сетки. Готовая одежда наконец-то перестала напоминать простыни с рукавами, а потому итальянцы, подразделявшиеся, как выяснилось, на сто сорок типоразмеров, начали в неё с удовольствием облачаться.
Полноценная швейно-текстильная промышленность приходила на смену ремесленно-кустарным мастерским и ателье. Существовавшие к тому времени известные модельеры тоже не преминули воспользоваться условиями новой реальности, ибо фабричное производство позволяло масштабировать выпуск коллекций без существенной потери качества. Тут ещё выяснилось, что помимо технологических мощностей, у Милана в рукаве был припрятан победный козырной туз. Столица Ломбардии являлась исторической родиной множества издательских домов и рекламных агентств. А откуда люди вообще узнают, что ты известный модельер, если о тебе не пишут в модных журналах? И так же, как актёры стягиваются в Голливуд, в Милан потянулись жаждавшие славы рыцари иглы и напёрстка. Главный город итальянской моды окончательно определился и впредь уже не сдавал позиций.
Это, впрочем, не означало, что рынок готовой одежды стал общим и единым. Наоборот, пропасть между его сегментами углубилась и расширилась. По одну её сторону лежали именные дизайнерские коллекции прет-а-порте, качественные, красивые и дорогие. По другую – сошедшие с конвейера массовые безымянные модели, качественные, дешёвые и скучные. А уж какими-какими, но скучными итальянцы – особенно молодые – быть во все времена были не согласны категорически.
Молодёжь посмотрела направо, на американских хиппи… Посмотрела налево, на китайских коммунистов… И заявила:
– Если мы не можем позволить себе покупать красивые вещи, так не доставайся же ты никому! Сбросим буржуазную моду с подмостков истории! Ре-во-лю-ци-я! Ре-во-лю-ци-я!
Так начались студенческие протесты конца 60-х годов. Одеты колонны манифестантов были кто во что горазд, чем хуже, тем лучше. А иконами стиля среди них считались Мао Цзэдун и его верные хунвейбины, почитавшие любые намёки на стиль в одежде подлежащими искоренению капиталистическими предрассудками. Понаблюдав некоторое время за происходящим, один из менеджеров небольшой одёжной фабрики под названием «Туринская маечно-носочная» извлёк из самого дальнего угла склада ворох годами пылившегося там неликвида, настолько страшного, что его никто не хотел покупать, нашил на него уйму псевдовоенных эмблем и развесил в торговом зале.
– Что это за тряпьё?! – вскричал директор фабрики.
– О! Отлично! – отвечал находчивый менеджер. – Так мы его и назовём: Robe di Kappa – «Тряпьё на букву „К“»!
– Да, но почему «К»?
– Ну это же очевидно, синьор директор. Китай. Комсомол. И весна!
Студентам же ничего объяснять не требовалось, они сами всё поняли, дружно напялили тряпьё и пошли дальше совершать культурную революцию. Поскольку же студентами они были ни какими-нибудь, а итальянскими, выглядело оно на них настолько модно, спортивно и молодёжно, что уже вскоре в марку Kappa облачился туринский футбольный клуб «Ювентус» и даже национальная олимпийская сборная США.
Контркультурная молодёжь бунтовала против моды настолько рьяно, что в короткие сроки превратилась в главный источник модных тенденций. А заодно и основного их потребителя. Более того, она изменила само значение термина. Если раньше «быть модным» означало прежде всего «быть элегантным», то в 60–70-е годы это трансформировалось в «быть иным, непохожим». Что привело к появлению в индустрии новых имён. Людей, способных перевернуть привычный ход вещей с ног на голову.
Лучано Бенеттон начал карьеру весьма традиционно, как и подавляющее большинство прочих великих итальянцев. А именно: родился в очень бедной семье. Уже в десятилетнем возрасте, дабы прокормить двух младших братьев и сестру, он начал работать продавцом в магазине тканей. Этой же тканью получал часть зарплаты. Из неё сестра и сшила ему однажды исторический свитер. Ничего особенного в нём не было за исключением маленькой детали: свитер был жёлтым. Что в середине 50-х годов выглядело крайне необычно.
– Ух ты, ничего себе! – закричали его юные приятели. – Где ты такой достал? А красные там есть?.. А зелёные?..
В голове у Лучано вспыхнула лампочка: зачем шить много разных однотонных моделей одежды, если можно сделать одну, но в разных цветах?.. Десять лет, претерпевая голод и лишения, копил он деньги. Наконец в 1965 году в деревушке неподалёку от Венеции открылся первый магазин United Colors of Benetton. Всего несколько простых моделей. И нет, никакого разноцветья, как можно было бы подумать. Наоборот, Лучано использовал исключительно хлопок натурального цвета. Он заготавливал полуфабрикаты. Окрашивалось же готовое изделие уже потом, по индивидуальному заказу покупателя.
– Рубашка №3, розово-голубая в оранжевую полоску. Брюки №1, фиолетовые в зелёный горошек. Горчичный ремень к ним брать будете? Спасибо за покупку!.. Свободная касса!
На этом Бенеттон не остановился и впервые в истории итальянской моды начал продавать франшизы на изобретённое им ателье быстрого одевания. Магазины с его фамилией на вывеске росли как грибы после дождя и к 90-м годам расплодились в таком количестве, что для упрощения транспортной логистики ему пришлось купить всю общенациональную сеть итальянских платных автомагистралей.
Влиянию свежих веяний молодёжной моды подверглись даже старые, заслуженные и респектабельные фирмы. Жила-была, скажем, целая семья портных. Для разнообразия – семья очень даже богатая. С начала XX века владела роскошным магазином в миланской Галерее Витторио Эмануэле Второго и была официальным поставщиком Савойского королевского двора. Со временем, однако, портные обленились, а дела пришли в упадок. В 1979 году во владение магазином вступила внучка основателя фирмы, Миучча Бьянки. Начала она осматривать собственность и видит: пыль, запустенье, всё чехлами затянуто. Пощупала чехлы. Хорошая ткань, прочная и водонепроницаемая. Парашютный нейлон. Села Миучча за швейную машинку и смастерила из него спортивный рюкзак. Казалось бы, ни материал, ни само изделие на дорогой модный аксессуар похожи не были. Но даже самая богатая и взыскательная публика к тому времени прониклась желанием выглядеть молодо и спортивно настолько, что продажи рюкзаков пошли на ура. Так Миучча вдохнула в семейное дело вторую жизнь, ещё лучше прежней. А чтобы связь поколений не терялась, – поменяла фамилию на родовую, дедовскую: Прада.
В общем, всем потихоньку становилось понятно: не то главное, какие наряды ты способен изобретать, а то, как умеешь предугадывать текущие вкусы и предпочтения покупателей. И однажды известный модельер и владелец текстильных предприятий Нино Черрути пришёл на модельерскую сходку в сопровождении загорелого улыбчивого паренька.
– Познакомьтесь, это мой стилист, Армани, – представил он его.
– Кто? – удивились другие модельеры.
– Армани. Фамилия такая. Зовут Джорджо.
– Да нам без разницы, как его зовут. Но что такое «стилист» и на кой он тебе сдался?
Вопрос был закономерным. Это сегодня термины «модельер» и «стилист» превратились в синонимы. В те же времена модельером считался в первую очередь человек, который умел шить одежду. Грубо говоря – усовершенствованный портной. А вот слово stilista в итальянском языке хотя и существовало, но относилось к автомобильным дизайнерам и архитекторам. И ровно по тем же причинам, по которым первые из них не обязаны уметь прикручивать к машинам колёса, а вторым не нужно самим замешивать раствор и класть кирпичи, – Армани не умел шить.
Врач-недоучка по образованию, карьеру свою он начинал в рекламно-закупочном отделе большого универмага одежды. На этом поприще и проявилась впервые его гениальность: призванием Армани было не создание чего-то нового, невиданного ранее, но искусство превосхищать вкусы и желания публики, предлагать ей именно то, что она уже была готова и настроена купить.
Другими словами, прежде всего он был выдающимся маркетологом. Большего и не требовалось, ибо все остальные необходимые элементы системы уже существовали и до того. Армани изучал запрос рынка, создавал стиль коллекции, то есть придумывал, что, собственно, следует шить, а затем продавал этот стиль имени себя крупным туринским фабрикам готовой одежды. Для этого, правда, пришлось с нуля изобрести юридическую систему лицензий на дизайн. Фабрики не имели права вносить в него изменения, а Армани, со своей стороны, не вмешивался в процесс производства. Дальше в дело вступали миланские модные журналы, а потом – неизбежный Голливуд. Стоило Ричарду Гиру побегать в «Американском жиголо» с ног до головы одетым в Armani, как кинозрители по обе стороны Атлантики сразу же осознавали, какую именно одежду они уже давно подсознательно мечтали носить.
Короче говоря, Армани, а вслед за ним и другие стилисты той золотой эпохи – Ферре, Версачи, Труссарди – воплотили давнюю мечту муссолиниевского «Нацмоднадзора»: образовали подобие совета директоров неофициальной организации, объединявшей производительные силы всей отрасли, своим добрым именем – точнее, фамилиями дизайнеров – ручавшейся за качество продукции и определявшей пути развития национальной моды. Благодаря им надпись Made in Italy, дополненная маленьким трёхцветным флажком, превратилась во всемирный бренд, способный потягаться по узнаваемости с брендами Coca-Cola и Visa.
Модная индустрия стала вторым по значению – после туризма – сектором итальянской экономики, а её представители – начиная от неугомонного Эмилио Пуччи, успевшего под конец жизни позаседать в парламенте, до обувного магната Диего Делла Валле, сначала приложившего руку к усаживанию Сильвио Берлускони в кресло премьер-министра, а затем долго и безуспешно пытавшегося его оттуда выковырнуть – определяли уже саму политику страны. Но некоторым было мало и этого.
По сравнению со стилистами первой волны, Доменико Дольче и Стефано Габбана были молодой шпаной.
– Мы сотрём их с лица земли! – сказал Дольче.
– Но как, Доменико?.. О нас никто не знает. У нас даже нет денег, чтобы купить ткань для новой коллекции. Забыл, как для последнего показа мы простыни с твоей кровати перекраивали?
– Очень просто. Мы побьём их ценой. Если у Армани рубашка стоит четыреста, будем продавать нашу за восемьсот. На джинсы от Версачи за тысячу – ответим нашими за две. Так победим!
– Да ты головой ударился. Кто и с какого перепугу у нас это будет покупать?
Дольче взял Габбану под локоток, подвёл к ростовому зеркалу, сам же пристроился сзади, слегка поёрзал в поисках нужной позы и развёл руки в стороны.
– Смотри. Сколько у нас на двоих ног?
– Ну, допустим, четыре.
– А сколько рук?
– Тоже четыре. Но какое отношение это…
– Как ты не понимаешь?!.. Мы же с тобой и есть Витрувианский человек Леонардо да Винчи! Долгожданный венец модной эволюции. Идеальный, пропорциональный и непобедимый. Какую бы ерунду мы им ни предложили, они всё равно купят её за любые деньги. Просто поверь!..
Вот так в Италии и появилась мода. В наши дни, встав утром с постели, итальянки – а равно и некоторые итальянцы – заворачиваются в простыню от Dolce & Gabbana и ходят в ней до вечера. Правда, отдельные граждане страны никак не могут взять в толк, почему простыня эта сделана в Турции и стоит три среднеитальянских месячных зарплаты. Слышны даже голоса: что-то, мол, явно пошло не так. Какое, собственно говоря, отношение одежда, произведённая руками китайских и индонезийских рабочих и продающаяся в Токио, Москве и Абу-Даби, ныне имеет к Италии? Нужно, дескать, что-то менять… Хотя, может статься, это и не лучшая идея. А ну как жаждущие перемен итальянцы заведут себе нового Муссолини?.. С модой у него, может, и неплохо получалось управляться. Но вряд ли он итальянцам нужен. Лучше уж им как-нибудь без него обойтись. Ведь любим-то мы их всё равно не за это.
Как спастись от спасателей
Утром ногам получше, ходить вроде можно. А если можно ходить, значит можно лезть в гору. Логично же, правильно?..
А горы всё выше, а горы всё круче, а горы уходят под самые тучи. Гряда выстроившихся в линию каменных исполинов тянется на десятки километров. Из седловины под моими ногами выныривает и бежит к вершинам едва различимая отсюда тропа. Но чтобы на неё попасть, сначала нужно спуститься с горы, на которой стою сейчас. Сделав пару шагов вниз, осознаю, что всё. Приехали.
Малейшее неудачное движение – как молотком по колену. С учётом особенностей рельефа, «неудачное» в данном случае означает «любое». О том, чтобы идти дальше, думать не приходится. Приходится думать, как вернуться обратно. С грехом пополам добираюсь до седловины. Читаю надпись на указателе: «Приют Лагдеи – 1 ч. 10 мин.»
Ага-ага, час десять, конечно… Пять!.. Уже пять часов я спускаюсь по этой проклятой скальной лестнице… Так, палку вниз. Не скользит? Хорошо. Перенести вес. Левая нога пошла!.. Согнуть, согнуть!.. Терпеть!.. Уй, больно-больно-больно!.. Фух… Ладно. Зафиксировались? Стоим?.. Отлично. Правая пошла!..
Мне повезло. Это едва ли не самое удачное на всём пройденном маршруте место, чтобы получить травму. Здесь есть люди: то и дело встречаю группы туристов. И не только привычных пенсионеров, но и вполне себе спортсменов в серьёзной походной экипировке. Внизу в Лагдеи есть опорный пункт карабинеров и лесничество. А итальянские лесники – синьоры могучие и решительные, оснащённые всем, вплоть до вертолётов. Короче говоря, при первой же просьбе о помощи меня незамедлительно примутся спасать всей толпой. В этом-то и проблема. Зная характер итальянцев, не сомневаюсь, что к спасению они приступят с энтузиазмом, готовностью и даже, не побоюсь этого слова, – удовольствием. Въезжать же в Лагдеи на носилках ногами вперёд под рёв сирен я пока не очень морально готов. Стыдно. Потому при виде людей сажусь на камень и изо всех сил изображаю, что, мол, наслаждаюсь природными красотами и жизнью.
Внизу выясняется, что ходить уже практически не могу. Даже по ровной поверхности. Парень из туристической группы, которую до того встретил на горе, спрашивает, что со мной приключилось. Объясняю.
– Что ж ты раньше-то не сказал?!..
Помимо искреннего сочувствия, на лице его читается явная досада от упущенной возможности провести блестящую образцово-показательную спасательную операцию.
Два дня отлёживаюсь, выползая только с целью поесть. Питаю призрачные иллюзии, что сейчас всё пройдёт и смогу возобновить путь. На третий день и правда обретаю способность к передвижению без опоры на палку. Осознаю, однако, что попытка продолжать – это гарантированное самоубийство. Нужно выбираться домой.
Но это легко сказать «выбираться». Уйти на своих двоих не могу, а транспорт тут не ходит в принципе. Иду к Паоло, управляющему приютом, просить совета и помощи. Он говорит, что в ближайшей деревне можно сесть на маршрутку, а дотуда он меня охотно подкинет на машине. По дороге пытаюсь извиниться за доставленное беспокойство. Он лишь отмахивается. Ему, мол, это ничего не стоит, а я, может статься, ещё вернусь к ним в будущем. Подозреваю, мне только что сделали предложение, от которого невозможно отказаться.
Маршрутка – пересадка – рейсовый автобус – Парма. В Парме выясняется страшное: тут нет «Макдональдса». А значит и интернета. Без интернета же найти гостиницу проблематично, особенно когда ты с трудом передвигаешься. Делать нечего, сажусь на поезд и еду в Болонью.
Лежу в гамаке во дворе хостела при болонском университете. Время до самолёта мне скрашивает британский международный бомж. Он сидит рядом, в ожидании, пока лондонские секретные службы переведут ему на счёт денег в знак признательности за былые заслуги. Что позволит оплатить ночёвку в хостеле. И безостановочно травит байки. Хотя, нет. Не просто байки. Это настоящая баечная оратория для симфонического оркестра, исполняемая великим мастером. Захватывающая, артистичнейшая и, в те моменты, когда он пускается в общефилософские рассуждения, – можно сказать, что и мудрая.
И вокруг земного шара-то он несколько раз объехал, и на куче войн побывал, и секретное бесконтактное кунг-фу изучал, и в лагеря террористов пробирался, и международные финансовые корпорации возглавлял… Я уже морально готов к тому, что сейчас дело дойдёт до горящих боевых кораблей на подступах к Ориону и си-лучей, мерцающих близ врат Тангейзера. Компания совершающих евротрип американских тинейджеров смотрит на него как на спустившегося с небес Бэтмана. К чести его, на какое-либо материальное вознаграждение он даже не намекает. Исполняет всё это исключительно во имя любви к чистому искусству. Да и зачем ему деньги? Последние двадцать пять лет он мотался по миру не просто так, а работал над хитрым – и жутко таинственным! – планом. Теперь, когда пазл почти сошёлся, совсем скоро над этим самым миром он обретёт абсолютную власть. Ну, точнее, мог бы обрести, если бы хотел. Но он не хочет. Ему вполне достаточно маленького домика в горах Тосканы, возможности ни от кого не зависеть и вести скромную жизнь отшельника, полную медитаций и размышлений.
Автобус в аэропорт пробирается сквозь оживлённо переговаривающийся клаксонами трафик. Хромота моя привлекает внимание здешней разновидности бойскаутов. Они настойчиво пытаются уступить мне место. Нет, ребята. Пусть этот раунд я и проиграл, но, по крайней мере, с ринга уйду в полный рост.
Болонья исчезает внизу. Колени в поисках менее болезненной позы скребут по спинке впередистоящего сиденья. На душе скребут кошки. Отворачиваюсь от иллюминатора, закрываю глаза. Вновь вижу покрытый ночным туманом луг и смутные силуэты рогатых монстров за проволочной оградой. Как-то они там сейчас одни, без меня?..
Сон десятый. Лицензия на убийство
Зомби существуют. Это не подлежащий сомнению факт.
Да погодите, не хватайтесь за дробовик и бензопилу!.. Бесполезно. Настоящие зомби вовсе не похожи на тех разваливающихся на части киношных неудачников, что уныло бродят по карте в поисках свежих мозгов. Мозги у них и у самих есть. И преотличные, дай бог каждому. Да и выглядят они, как совершенно обычные люди. До тех пор, пока не начинают убивать.