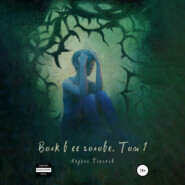По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Волк в ее голове
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– В смысле?..
– Я за такие вещи не отвечаю. – Дежурный отходит от стекла, хватает из пачки лист А4. – Да что ты ржёшь-то? Припадочный?
– Нет, вы не поняли! – От хохота выступают слёзы на глазах. – Я могу её опознать! Я…
Горло пережимает тошнота: обрывает и фразу, и приступ нелепого смеха. Полицейский возвращается к телефонам, суёт в окошко бумагу и принимает новый звонок.
Я смотрю на лист с заголовком «ЗАЯВЛЕНИЕ» и ничего не понимаю. Повторяю дежурному, что ищу Диану, свою Диану, а нашли, может быть, вовсе не её, и это надо знать точно. Зачем-то вспоминаю Холм смерти, уроки Вероники Игоревны и с отчаянием сознаю, что дежурный меня не слушает. Он слушает только звонки (визгливое «др-р-р-р») и, словно многорукий телефонный бог, всякий раз угадывает нужный аппарат.
Не зная, что ещё сделать, я пишу номер мобильного поперёк заявления и толкаю бумагу в окошко. Усач роняет её, подбирает, роняет снова. Откладывает.
Какой-то тихий ужас.
– Скажите хотя бы, кто ею занимается? Есть же человек? Один человек!
Дежурный вздыхает и оглядывается на дверь во внутренние помещения. Подтягивает брюки, неохотно выстукивает на одном телефоне номер и тихо, как бы боясь лишних ушей, спрашивает:
– Санёк? Кто рыжую ведёт?
Ответ едва слышно фонит из трубки.
– У нас их много, конечно, – дежурный поднимает взгляд к потолку. – Каждый, сука, вторник находят по дохлой рыжей девке, потому что у нас их в районе девать некуда, хоть на зиму соли.
Меня неприятно поражает циничность фразы, но возмутиться я не успеваю: едва различимо звучит голос из телефона, затем дежурный швыряет трубку в док-станцию и произносит странное слово «мухлади».
– Чё?
– Мухлади. Он пока на обходе.
Зачем мне эта информация? Что с ней делать?
– Н-наверное, подожду.
Стиснув челюсти и не говоря более ни слова, я сползаю на металлические стулья.
Телефоны звонят и звонят. Часы над усачом зловещим маятником отсчитывают время: «Щёлк-тр-р-р-Щёлк-тр-р-р…». Дежурный выходит в соседнее помещение, возвращается, кому-то звонит, равнодушно глядя на меня. Выходит снова. Доставляют двух подростков с кровью на кулаках и лицах, тихого и улыбчивого бомжа. От телефонного крещендо головная боль усиливается до темноты в глазах, до тошноты, и на деревянных ногах я направляюсь к кулеру. Наливаю горячую воду, и пластик стаканчика делается мягким и податливым, обжигает пальцы. Это чувство немного отрезвляет, заземляет меня, и я через боль несу стаканчик к стульям. Вспоминаю о калитке и достаю бумажный пакет, лоснящийся посерёдке от жира. Поначалу вкус пирожка не ощущается – только ноет внутри, словно под грудину всадили рыбью кость, – а потом разум будят сигналы рецепторов: солоноватое тесто, картофельное пюре. Корочка из сметаны и яйца.
Я осознаю, что голоден. Голоден страшно, с утра, и в желудке даже на донышке – там яма, бездна, а калитки уже нет, и в стаканчике пусто.
Меня тянет прочь: из участкового пункта, на улицу, вдоль забора с колючей проволокой. В ближайшем «Магните» я покупаю чай с лимоном и ватрушку. Съедаю там же божественно сладкую ватрушку, выпиваю горячий чай и чувствую, как страх понемногу уходит.
Всё это недоразумение.
Я покупаю ещё одну ватрушку и возвращаюсь в участковый пункт. Съедаю и её, вспоминая калитку, до странного вкусную, как готовят только дома, с любовью. Головная боль понемногу отпускает мой череп. Куда-то в щели между половицами уходит страх.
Точно недоразумение. Диана мертва? Не смешите!
Диана, которая съехала стоя на ногах с Холма смерти – мертва?!
Не поверю. Ха-ха. Да в жизни не поверю!
Заходит полицейский с папкой: переговаривает с дежурным, и тот показывает на меня. От этого взгляда резко сводит живот. Полицейский скрывается во внутренних помещениях. Приходит бледная, как призрак, женщина, кричит на усача, и виски мои снова будто раздавливает обручем.
– Старший участковый уполномоченный, капитан Мухлади. Ты насчёт погибшей?
Я с тревогой осознаю, что надо мной нависает тот полицейский с папкой. Мух-ла-ди? Он выглядит странно знакомым.
– Д-да. Здрасте.
– Тебе исполнилось шестнадцать?
Моё обоняние улавливает тяжёлый дух перегара.
– Естественно!
– Документы.
– Да есть мне шестнадцать! – Я киваю головой в подтверждение.
– Документы!
– Ну дома паспорт! Зачем?..
Лицо Мухлади черствеет.
– Родители далеко? Позвонить можешь?
– Да! То есть нет! Отец в прошмандировке, то есть в командировке, он так называет. Там… – Я чувствую, что сдуваюсь от эмоций, от потока слов и заканчиваю еле слышно: – Там он не отвечает.
– Мать?
Когда у меня спрашивают о ней, в голове возникает одна и та же зимняя ночь. За окном подвывает снег, пурга, я лежу под тяжёлым пуховым одеялом. В темноте мерцают красные цифры будильника: двадцать три – шестнадцать. Приглушённо бормочет телевизор на кухне, и тихо звучит голос мамы, которая говорит по телефону в комнате родителей. Она рано развелась с батей, и больше воспоминаний о ней не осталось. Совсем не осталось, ни одного, так что я часто размышляю, реальна ли эта картинка или выдумана. Может, смешались несколько разрозненных кусков? Было ли одиннадцать вечера? Была ли метель за окном? И голос, который звучит в моей голове, – её ли? Или Вероники Игоревны? Или любой другой батиной девицы?
– Мать?! – нетерпеливо, громко повторяет Мухлади.
– Она в Китае где-то. Мы с ней не…
– Классный руководитель?
Пропала. Ха. Без вести. Ха. Ха.
– С ней некоторые проблемы.
– Хоть кто-то у тебя имеется без проблем?
Не понимая смысла этого допроса, я растерянно смотрю на Мухлади. Он секунды две ждёт ответа, затем отводит взгляд.
– Без представителя не положено.
– Я за такие вещи не отвечаю. – Дежурный отходит от стекла, хватает из пачки лист А4. – Да что ты ржёшь-то? Припадочный?
– Нет, вы не поняли! – От хохота выступают слёзы на глазах. – Я могу её опознать! Я…
Горло пережимает тошнота: обрывает и фразу, и приступ нелепого смеха. Полицейский возвращается к телефонам, суёт в окошко бумагу и принимает новый звонок.
Я смотрю на лист с заголовком «ЗАЯВЛЕНИЕ» и ничего не понимаю. Повторяю дежурному, что ищу Диану, свою Диану, а нашли, может быть, вовсе не её, и это надо знать точно. Зачем-то вспоминаю Холм смерти, уроки Вероники Игоревны и с отчаянием сознаю, что дежурный меня не слушает. Он слушает только звонки (визгливое «др-р-р-р») и, словно многорукий телефонный бог, всякий раз угадывает нужный аппарат.
Не зная, что ещё сделать, я пишу номер мобильного поперёк заявления и толкаю бумагу в окошко. Усач роняет её, подбирает, роняет снова. Откладывает.
Какой-то тихий ужас.
– Скажите хотя бы, кто ею занимается? Есть же человек? Один человек!
Дежурный вздыхает и оглядывается на дверь во внутренние помещения. Подтягивает брюки, неохотно выстукивает на одном телефоне номер и тихо, как бы боясь лишних ушей, спрашивает:
– Санёк? Кто рыжую ведёт?
Ответ едва слышно фонит из трубки.
– У нас их много, конечно, – дежурный поднимает взгляд к потолку. – Каждый, сука, вторник находят по дохлой рыжей девке, потому что у нас их в районе девать некуда, хоть на зиму соли.
Меня неприятно поражает циничность фразы, но возмутиться я не успеваю: едва различимо звучит голос из телефона, затем дежурный швыряет трубку в док-станцию и произносит странное слово «мухлади».
– Чё?
– Мухлади. Он пока на обходе.
Зачем мне эта информация? Что с ней делать?
– Н-наверное, подожду.
Стиснув челюсти и не говоря более ни слова, я сползаю на металлические стулья.
Телефоны звонят и звонят. Часы над усачом зловещим маятником отсчитывают время: «Щёлк-тр-р-р-Щёлк-тр-р-р…». Дежурный выходит в соседнее помещение, возвращается, кому-то звонит, равнодушно глядя на меня. Выходит снова. Доставляют двух подростков с кровью на кулаках и лицах, тихого и улыбчивого бомжа. От телефонного крещендо головная боль усиливается до темноты в глазах, до тошноты, и на деревянных ногах я направляюсь к кулеру. Наливаю горячую воду, и пластик стаканчика делается мягким и податливым, обжигает пальцы. Это чувство немного отрезвляет, заземляет меня, и я через боль несу стаканчик к стульям. Вспоминаю о калитке и достаю бумажный пакет, лоснящийся посерёдке от жира. Поначалу вкус пирожка не ощущается – только ноет внутри, словно под грудину всадили рыбью кость, – а потом разум будят сигналы рецепторов: солоноватое тесто, картофельное пюре. Корочка из сметаны и яйца.
Я осознаю, что голоден. Голоден страшно, с утра, и в желудке даже на донышке – там яма, бездна, а калитки уже нет, и в стаканчике пусто.
Меня тянет прочь: из участкового пункта, на улицу, вдоль забора с колючей проволокой. В ближайшем «Магните» я покупаю чай с лимоном и ватрушку. Съедаю там же божественно сладкую ватрушку, выпиваю горячий чай и чувствую, как страх понемногу уходит.
Всё это недоразумение.
Я покупаю ещё одну ватрушку и возвращаюсь в участковый пункт. Съедаю и её, вспоминая калитку, до странного вкусную, как готовят только дома, с любовью. Головная боль понемногу отпускает мой череп. Куда-то в щели между половицами уходит страх.
Точно недоразумение. Диана мертва? Не смешите!
Диана, которая съехала стоя на ногах с Холма смерти – мертва?!
Не поверю. Ха-ха. Да в жизни не поверю!
Заходит полицейский с папкой: переговаривает с дежурным, и тот показывает на меня. От этого взгляда резко сводит живот. Полицейский скрывается во внутренних помещениях. Приходит бледная, как призрак, женщина, кричит на усача, и виски мои снова будто раздавливает обручем.
– Старший участковый уполномоченный, капитан Мухлади. Ты насчёт погибшей?
Я с тревогой осознаю, что надо мной нависает тот полицейский с папкой. Мух-ла-ди? Он выглядит странно знакомым.
– Д-да. Здрасте.
– Тебе исполнилось шестнадцать?
Моё обоняние улавливает тяжёлый дух перегара.
– Естественно!
– Документы.
– Да есть мне шестнадцать! – Я киваю головой в подтверждение.
– Документы!
– Ну дома паспорт! Зачем?..
Лицо Мухлади черствеет.
– Родители далеко? Позвонить можешь?
– Да! То есть нет! Отец в прошмандировке, то есть в командировке, он так называет. Там… – Я чувствую, что сдуваюсь от эмоций, от потока слов и заканчиваю еле слышно: – Там он не отвечает.
– Мать?
Когда у меня спрашивают о ней, в голове возникает одна и та же зимняя ночь. За окном подвывает снег, пурга, я лежу под тяжёлым пуховым одеялом. В темноте мерцают красные цифры будильника: двадцать три – шестнадцать. Приглушённо бормочет телевизор на кухне, и тихо звучит голос мамы, которая говорит по телефону в комнате родителей. Она рано развелась с батей, и больше воспоминаний о ней не осталось. Совсем не осталось, ни одного, так что я часто размышляю, реальна ли эта картинка или выдумана. Может, смешались несколько разрозненных кусков? Было ли одиннадцать вечера? Была ли метель за окном? И голос, который звучит в моей голове, – её ли? Или Вероники Игоревны? Или любой другой батиной девицы?
– Мать?! – нетерпеливо, громко повторяет Мухлади.
– Она в Китае где-то. Мы с ней не…
– Классный руководитель?
Пропала. Ха. Без вести. Ха. Ха.
– С ней некоторые проблемы.
– Хоть кто-то у тебя имеется без проблем?
Не понимая смысла этого допроса, я растерянно смотрю на Мухлади. Он секунды две ждёт ответа, затем отводит взгляд.
– Без представителя не положено.