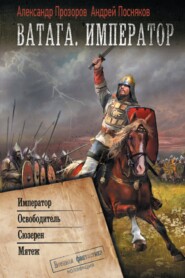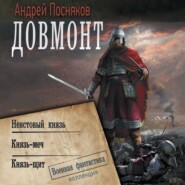По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Боярин: Смоленская рать. Посланец. Западный улус
Жанр
Серия
Год написания книги
2020
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
А почему б и не поддержать разговор? Заодно и про братовьев выспросить.
После выпитого хмельного гости уже и совсем позабыли, по какому поводу они все здесь собрались: кто-то жрал в три горла, кто-то рыгал, кто-то смеялся, а вот в дальнем углу гнусаво затянули похабную песню про трех «бляжьих жонок».
Веселая оказалась песня, в иной момент Павел с интересом послушал бы, но пока был занят – соседа расспрашивал. Тем более что хлебали они налимью ушицу из одной миски, а холодец – блюдо на пятерых-шестерых – кто дотянется, отдельной тарелки ни у кого не было, не те времена. Звали соседа – Микола Хрястов, и был он, как понял Ремезов, «вольным слугом», но гордо именовал себя «боярином», только что «корочки» не показывал за неимением таковых, типа «помощник депутата Государственной думы» или «начальник Следственного комитета». С лица не особо видный – обычное такое, вполне нормальное, с куцей бороденкой, лицо – боярин Хрястов поболтать очень даже любил, видать, совсем одичал в своей деревеньке за лесами да за болотами, и теперь рта не закрывал, Павел только успевал слушать да время от времени, прикладываясь к кружке, направлять беседу в нужное русло. И много чего узнал!
Оказывается, его родные братцы, пользуясь тяжелой болезнью отца, уже давным-давно поделили промеж собой и его земли, и людишек, и даже утварь кухонную. И это было вполне по-русски, в Западной Европе, к примеру, такой фукус бы не прошел – там действовало правило «майората» – все наследство доставалось старшему сыну, а все остальные – свободны.
Делили – буквально каждый ухват – вовсе не по-братски – до междоусобной войны доходило, даже князь смоленский Всеволод Мстиславич вмешивался, охолонивал. Но вот поделили все ж таки, договорились, кому что… Младшего братца, конечно, в расчет не приняли. А на что ему? Молодой ишо, и так перебьется. Кстати, а Заболотица-то – батюшкина деревенька – и по какому праву ею Пашке владеть? Ему и княжьих выселок хватит! Впрочем, и их можно того… прибрать…
– Так что ты, Павлуша, братцев-то своих пасись, – дернув кадыком, по-свойски предупредил Хрястов. – Кабы они у тебя земельку не отобрали.
Павел выпятил грудь:
– Пущай попробуют! Чай, и я не в поле найден – повоюем, посмотри еще, кто кого?
– Не, Павлуша, воевать им с тобой несподручно – князь же предупредил строго-настрого, чтоб никаких смут! Если только наймут кого… Да и то навряд ли – больно уж жадны оба.
Гости все время за столом не сидели – то и дело выходили на улицу, развеяться, а кое-кто периодически заваливался спать либо прямо тут, в трапезной, либо в горнице, либо – чаще всего – в людской. Долго, впрочем, не задержались – почившего боярина, как и его сыновей, никто особенно-то не жаловал, да и угощенье скоро закончилось. Тем более старшие Ремезовы-братцы всем своим угрюмым видом словно бы говорили гостям – а не пора ли и честь знать?
Еще и смеркаться не начинало, а половина трапезной опустела, а немного погодя убрались и оставшиеся гости – тех, кто уже успел упиться, под руки утащили в сани слуги. Распрощался и Микола Хрястов:
– Здрав буди, Павлуша, не бедствуй! Может, когда и свидимся.
Павел вышел проводить нового своего знакомца, даже рукой помахал вослед саням, а когда вернулся обратно в трапезную – за столом уже и не было никого, лишь в дальнем углу храпело вконец упившееся никому, видимо, не нужное, тело.
– Опочивать не хочешь ли, господине? – сладеньким голоском осведомился вьюном проникший сквозь приоткрытую дверь кривобокий, небольшого росточка, человечек со сморщенным и каким-то желтым, словно у гепатитного больного, лицом.
А, может, и в самом деле – больной. Не заразил бы!
Молодой человек инстинктивно попятился и громко спросил:
– А ты, вообще, кто?
– Тиун боярина помершего. Олексой зовут, – тряхнув реденькой бороденкой, мужичок, кренясь на левый бок, повернулся к двери и, угодливо изогнувшись, молвил:
– Идем, господине, опочивальню твою покажу.
– Постой! – подозрительно сверкнул глазами боярин. – А слуги мои верные где?
– Слуги? А, один с бородищей и гуслями, другой – с мордой ровно сундук?
– Ну да, эти, – Ремезов невольно улыбнулся – тиун-то оказался вовсе не дураком, все верно подметил. – Так где они?
– Так в людской или на кухне, где им еще быть, господине?
– Хорошо, – мотнул головой боярич. – Говорить с ними хочу… А уж опосля – спать. Да! Братцы мои где, уехали уже?
– Не, господине, тут. Боярские опочивальни заняли, по старшинству, а уж тебе, не гневись, в гостевой стелено.
Павел махнул рукой:
– В гостевой так в гостевой. Ладно, веди к слугам.
Он все ж сильно запьянел, и вот только сейчас, вечером, это почувствовал: голова этак приятственно кружилась, ноги слегка заплетались, а на лицо так и норовила наползти самая дурацкая улыбка.
Хорошо хоть Окулко-кат с Митохою нашлись быстро, правда, не в людской, на кухне, у печки. Окулко, тихонько звеня гуслями, веселил кухонных девок, наемник же, сноровисто работая большой деревянной ложкою, с аппетитом дохлебывал прямо из котла остатки щей.
– О! – завидев боярина, опустил гусли палач. – Вот и господине наш! Какие указания-приказания будут?
– Да какие… – скосив глазом на девок, пожал плечами молодой человек. – Вижу, разместились вы неплохо, с удобствами. Переночуем, да завтра с утра – домой.
– Вот и славно, боярин, – дохлебав, наконец, щи, Митоха поставил котел на пол и, вскочив на ноги, прошептал Павлу на ухо: – А за брательниками твоими, господине, я б проследил. Не нравятся они мне что-то!
– Мне и самому не нравятся.
Да, вот уж достались родственнички – словом с братцем молодшим не перемолвились, так, цедили что-то брезгливо через губу.
Гостевая опочивальня Ремезову неожиданно понравилась – пусть небольшая, зато уютная, – а с этим в средневековье были большие проблемы – то дуло изо всех щелей, то жарило, то дым глаза ел.
Небольшое слюдяное оконце выходило… бог знает, куда оно выходило, снаружи уже стемнело, и сквозь тонкие пластинки слюды уже сложно стало хоть что-нибудь разглядеть. На широком подоконнике стоял небольшой сундучок – пустой, как немного погодя убедился Павел. Напротив широкой с не шибко толстой периной, лавке, застеленной лоскутным покрывалом, расставил кряжистые ножки неширокий стол, на котором стоял тяжелый шандал с тусклой свечою, в мерцающем свете которой шарились по углам темные глубокие тени. И это тоже придавало комнате своеобразный уют, тем более что Ремезов с детства не любил слишком яркого света. Одна из стен гостевой представляла собой обмазанную глиной печку, топившуюся из соседнего помещения, и сейчас источавшую приятное томное тепло. Пожалуй, даже можно сказать, что в опочивальне было жарковато.
Поставив на стол принесенный с собою кувшин с квасом – «буде, господине, захочешь пить», – кривобокий тиун, поклоняясь, удалился.
Кружку забыл – стаскивая рубаху, незлобиво подумал Павел и уж собрался было загасить свечу да укладываться спать, как вдруг в дверь тихонько постучали. Скорее всего тиун – кружку принес.
Так и вышло – принесли кружку. Только не тиун, а юная чернобровая особа с толстой девичьей косою и в длинном безрукавном платье поверх белой полотняной рубахи. Голову девушки прикрывала широкая повязка с вышивкой, и эта повязка, и платье казались весьма простенькими, без всяких особых излишеств – одна только вышивка, никаких тебе жемчугов, злата-серебра, самоцветов. На тонких девичьих запястьях синели браслетики – дешевенькие, стеклянные.
Прислуга. Холопка или – вернее – челядинка. Симпатичная, тут уж ничего не скажешь, личико приятное, золотая коса, глаза большие, карие, с отражавшимся в них огоньком свечки. Словно золотистый чертик плясал.
Улыбнувшись, девушка поставила кружку на стол и снова поклонилась:
– Велено тебе, боярин, постелю нагреть.
– Постелю?
Павел недоуменно хлопнул глазами, а дальше уже и вовсе, мягко говоря, удивился – когда девушка, ничуть не смущаясь, скинула с себя платье, а вслед за ним и рубаху. Пухленькая, большегрудая, сильная – настоящая русская Венера.
– Эй, эй, ты что делаешь-то… – начал было Ремезов, да тут же и заткнулся: скользнув в постель, девушка прижалась к нему всем своим горячим телом, с жаром целуя в губы.
Молодой человек и не сопротивлялся – еще бы! Раз уж тут так принято, чтоб гостей девками угощать… очень хороший обычай, о-о-чень…
Целуя девичью грудь, Павел совсем скоро и думать забыл – где он и с кем. Просто наслаждался неожиданно свалившейся любовью, прижимая к себе крепкую и ласковую деву. Какие у нее были глаза! Грудь! Бедра…
Незнакомка тоже завелась уже, задышала шумно и томно, дернулась… застонала…
И оба воспарили в такую высь, откуда потом очень не скоро вернулись. Или это просто так казалось, что не скоро…
– Господине, а ты про Литву поганую знаешь?
После выпитого хмельного гости уже и совсем позабыли, по какому поводу они все здесь собрались: кто-то жрал в три горла, кто-то рыгал, кто-то смеялся, а вот в дальнем углу гнусаво затянули похабную песню про трех «бляжьих жонок».
Веселая оказалась песня, в иной момент Павел с интересом послушал бы, но пока был занят – соседа расспрашивал. Тем более что хлебали они налимью ушицу из одной миски, а холодец – блюдо на пятерых-шестерых – кто дотянется, отдельной тарелки ни у кого не было, не те времена. Звали соседа – Микола Хрястов, и был он, как понял Ремезов, «вольным слугом», но гордо именовал себя «боярином», только что «корочки» не показывал за неимением таковых, типа «помощник депутата Государственной думы» или «начальник Следственного комитета». С лица не особо видный – обычное такое, вполне нормальное, с куцей бороденкой, лицо – боярин Хрястов поболтать очень даже любил, видать, совсем одичал в своей деревеньке за лесами да за болотами, и теперь рта не закрывал, Павел только успевал слушать да время от времени, прикладываясь к кружке, направлять беседу в нужное русло. И много чего узнал!
Оказывается, его родные братцы, пользуясь тяжелой болезнью отца, уже давным-давно поделили промеж собой и его земли, и людишек, и даже утварь кухонную. И это было вполне по-русски, в Западной Европе, к примеру, такой фукус бы не прошел – там действовало правило «майората» – все наследство доставалось старшему сыну, а все остальные – свободны.
Делили – буквально каждый ухват – вовсе не по-братски – до междоусобной войны доходило, даже князь смоленский Всеволод Мстиславич вмешивался, охолонивал. Но вот поделили все ж таки, договорились, кому что… Младшего братца, конечно, в расчет не приняли. А на что ему? Молодой ишо, и так перебьется. Кстати, а Заболотица-то – батюшкина деревенька – и по какому праву ею Пашке владеть? Ему и княжьих выселок хватит! Впрочем, и их можно того… прибрать…
– Так что ты, Павлуша, братцев-то своих пасись, – дернув кадыком, по-свойски предупредил Хрястов. – Кабы они у тебя земельку не отобрали.
Павел выпятил грудь:
– Пущай попробуют! Чай, и я не в поле найден – повоюем, посмотри еще, кто кого?
– Не, Павлуша, воевать им с тобой несподручно – князь же предупредил строго-настрого, чтоб никаких смут! Если только наймут кого… Да и то навряд ли – больно уж жадны оба.
Гости все время за столом не сидели – то и дело выходили на улицу, развеяться, а кое-кто периодически заваливался спать либо прямо тут, в трапезной, либо в горнице, либо – чаще всего – в людской. Долго, впрочем, не задержались – почившего боярина, как и его сыновей, никто особенно-то не жаловал, да и угощенье скоро закончилось. Тем более старшие Ремезовы-братцы всем своим угрюмым видом словно бы говорили гостям – а не пора ли и честь знать?
Еще и смеркаться не начинало, а половина трапезной опустела, а немного погодя убрались и оставшиеся гости – тех, кто уже успел упиться, под руки утащили в сани слуги. Распрощался и Микола Хрястов:
– Здрав буди, Павлуша, не бедствуй! Может, когда и свидимся.
Павел вышел проводить нового своего знакомца, даже рукой помахал вослед саням, а когда вернулся обратно в трапезную – за столом уже и не было никого, лишь в дальнем углу храпело вконец упившееся никому, видимо, не нужное, тело.
– Опочивать не хочешь ли, господине? – сладеньким голоском осведомился вьюном проникший сквозь приоткрытую дверь кривобокий, небольшого росточка, человечек со сморщенным и каким-то желтым, словно у гепатитного больного, лицом.
А, может, и в самом деле – больной. Не заразил бы!
Молодой человек инстинктивно попятился и громко спросил:
– А ты, вообще, кто?
– Тиун боярина помершего. Олексой зовут, – тряхнув реденькой бороденкой, мужичок, кренясь на левый бок, повернулся к двери и, угодливо изогнувшись, молвил:
– Идем, господине, опочивальню твою покажу.
– Постой! – подозрительно сверкнул глазами боярин. – А слуги мои верные где?
– Слуги? А, один с бородищей и гуслями, другой – с мордой ровно сундук?
– Ну да, эти, – Ремезов невольно улыбнулся – тиун-то оказался вовсе не дураком, все верно подметил. – Так где они?
– Так в людской или на кухне, где им еще быть, господине?
– Хорошо, – мотнул головой боярич. – Говорить с ними хочу… А уж опосля – спать. Да! Братцы мои где, уехали уже?
– Не, господине, тут. Боярские опочивальни заняли, по старшинству, а уж тебе, не гневись, в гостевой стелено.
Павел махнул рукой:
– В гостевой так в гостевой. Ладно, веди к слугам.
Он все ж сильно запьянел, и вот только сейчас, вечером, это почувствовал: голова этак приятственно кружилась, ноги слегка заплетались, а на лицо так и норовила наползти самая дурацкая улыбка.
Хорошо хоть Окулко-кат с Митохою нашлись быстро, правда, не в людской, на кухне, у печки. Окулко, тихонько звеня гуслями, веселил кухонных девок, наемник же, сноровисто работая большой деревянной ложкою, с аппетитом дохлебывал прямо из котла остатки щей.
– О! – завидев боярина, опустил гусли палач. – Вот и господине наш! Какие указания-приказания будут?
– Да какие… – скосив глазом на девок, пожал плечами молодой человек. – Вижу, разместились вы неплохо, с удобствами. Переночуем, да завтра с утра – домой.
– Вот и славно, боярин, – дохлебав, наконец, щи, Митоха поставил котел на пол и, вскочив на ноги, прошептал Павлу на ухо: – А за брательниками твоими, господине, я б проследил. Не нравятся они мне что-то!
– Мне и самому не нравятся.
Да, вот уж достались родственнички – словом с братцем молодшим не перемолвились, так, цедили что-то брезгливо через губу.
Гостевая опочивальня Ремезову неожиданно понравилась – пусть небольшая, зато уютная, – а с этим в средневековье были большие проблемы – то дуло изо всех щелей, то жарило, то дым глаза ел.
Небольшое слюдяное оконце выходило… бог знает, куда оно выходило, снаружи уже стемнело, и сквозь тонкие пластинки слюды уже сложно стало хоть что-нибудь разглядеть. На широком подоконнике стоял небольшой сундучок – пустой, как немного погодя убедился Павел. Напротив широкой с не шибко толстой периной, лавке, застеленной лоскутным покрывалом, расставил кряжистые ножки неширокий стол, на котором стоял тяжелый шандал с тусклой свечою, в мерцающем свете которой шарились по углам темные глубокие тени. И это тоже придавало комнате своеобразный уют, тем более что Ремезов с детства не любил слишком яркого света. Одна из стен гостевой представляла собой обмазанную глиной печку, топившуюся из соседнего помещения, и сейчас источавшую приятное томное тепло. Пожалуй, даже можно сказать, что в опочивальне было жарковато.
Поставив на стол принесенный с собою кувшин с квасом – «буде, господине, захочешь пить», – кривобокий тиун, поклоняясь, удалился.
Кружку забыл – стаскивая рубаху, незлобиво подумал Павел и уж собрался было загасить свечу да укладываться спать, как вдруг в дверь тихонько постучали. Скорее всего тиун – кружку принес.
Так и вышло – принесли кружку. Только не тиун, а юная чернобровая особа с толстой девичьей косою и в длинном безрукавном платье поверх белой полотняной рубахи. Голову девушки прикрывала широкая повязка с вышивкой, и эта повязка, и платье казались весьма простенькими, без всяких особых излишеств – одна только вышивка, никаких тебе жемчугов, злата-серебра, самоцветов. На тонких девичьих запястьях синели браслетики – дешевенькие, стеклянные.
Прислуга. Холопка или – вернее – челядинка. Симпатичная, тут уж ничего не скажешь, личико приятное, золотая коса, глаза большие, карие, с отражавшимся в них огоньком свечки. Словно золотистый чертик плясал.
Улыбнувшись, девушка поставила кружку на стол и снова поклонилась:
– Велено тебе, боярин, постелю нагреть.
– Постелю?
Павел недоуменно хлопнул глазами, а дальше уже и вовсе, мягко говоря, удивился – когда девушка, ничуть не смущаясь, скинула с себя платье, а вслед за ним и рубаху. Пухленькая, большегрудая, сильная – настоящая русская Венера.
– Эй, эй, ты что делаешь-то… – начал было Ремезов, да тут же и заткнулся: скользнув в постель, девушка прижалась к нему всем своим горячим телом, с жаром целуя в губы.
Молодой человек и не сопротивлялся – еще бы! Раз уж тут так принято, чтоб гостей девками угощать… очень хороший обычай, о-о-чень…
Целуя девичью грудь, Павел совсем скоро и думать забыл – где он и с кем. Просто наслаждался неожиданно свалившейся любовью, прижимая к себе крепкую и ласковую деву. Какие у нее были глаза! Грудь! Бедра…
Незнакомка тоже завелась уже, задышала шумно и томно, дернулась… застонала…
И оба воспарили в такую высь, откуда потом очень не скоро вернулись. Или это просто так казалось, что не скоро…
– Господине, а ты про Литву поганую знаешь?