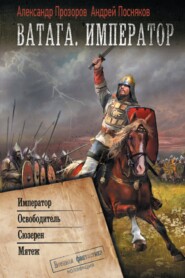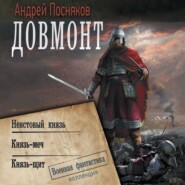По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Император
Серия
Год написания книги
2013
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– С ума сошел! – отмахнулся Кольша. – Вот так вот и поедем? Втроем?
– До озера доберемся, а там людишек наймем. – Афоня даже как-то сразу повзрослел, чувствуя нежданно-негаданно свалившуюся ему на голову ответственность, которую – отрок это хорошо видел – больше не был готов разделить никто: ни новгородский приказчик Кольша, ни – уж тем более – Микитка-раб.
О челядине тоже, кстати, следовало подумать.
– Ты чей раб, Микита? Дядюшкин?
– Его…
– Дядюшка Семен Игнатьич, упокой его, господи, вдовец… думаю, ты и не раб боле!
– Как это не раб? – вскинулся Кольша.
– Не раб! – твердо повторил Афоня. – Дядюшка – вдовец, и ныне хозяина тебе, Микита, нету.
– Что ж мне – в изгои, что ль? – Челядин в ужасе округлил глаза. – Скитаться? Совсем пропасть?
– Почему в изгои? – рассудительно промолвил Афоня. – Я так думаю, в рядовичи мы тебя в Новгороде поверстаем…
– В рядовичи?! – В карих глазах раба вспыхнула радость.
– Да, в рядовичи! Так, как служил – и будешь дальше служить, токмо уж по ряду. Да не бойся, не бросим, тем более – после такого вот… Нам бы обоз довести, тут ведь и соль, и крицы медные – многие кузнецы в Новгороде его ждут не дождутся. Раз уж мы живы – доведем, наймем возчиков – серебро у дядюшки было – искать надо. Ну, что смотрите? Обыщем всех да за лопаты. Нам еще до озера добираться.
С трудом, с передышками, но вырыли-таки могилы, погребли всех, срубили-поставили кресты. Потом по очереди стали читать молитвы, уж как умели, что знали…
Кольшу пару раз вырвало, и он ушел к ручью – умыться… А серебришко, кстати, – нашли! Правда, не так уж и много.
– Одному хватит, – оглядываясь на ушедшего Кольшу, тихо промолвил раб. – Видал, Афоня, как он на серебро зыркал? Собла-а-азн!
– Да какой соблазн? – усмехнулся отрок. – У Кольши в Новгороде и дом, и семейство – куда он денется-то?
– Как бы он нас не…
– Да что ты такое говоришь-то!
– Говорю ж – соблазн! – тряхнув темными кудрями, упрямо повторил Микита. – А Кольша – не святой Павел. Ничо, Афанасий, – спокоен будь, я уж за ним прослежу.
– Однако, – Афоня зябко повел плечом, хотя было довольно жарко, – смотрю, не шибко-то ты приказчика нашего жалуешь…
– Видал кое-что… – Снова оглянувшись, челядин понизил голос до шепота: – Его рыцарь один едва не пришиб… да Кольша заскулил – тот его в живых и оставил… Похоже, что одного – он, приказчик-то, последний и оставался – в ракитнике.
– Не убил, говоришь? – Юный охотник в недоверчивом удивлении вскинул левую бровь. – Так что ж – сжалился?
– Кто его знает? Может – и так.
– А зачем свидетеля в живых оставлять? Не знаешь? – Глянув на собеседника, Афоня махнул рукой: – Вот и я не знаю. А что за рыцарь-то?
– Такой, лет, может, тридцать или поболе. Лицом худ, бородка рыжеватая, острая… да, в левом ухе – серьга золотая!
– Золотая?
– Неужто рыцарь будет медяшку носить?
– Знаешь, Микита, тевтонские немцы не просто рыцари, но еще и монахи. По уставу орденскому у них вообще никаких серег быть не должно!
Тут вернулся и Кольша, разговор на том и закончился – парни запрягли лошадей и, связав возы цугом, неспешно подались по лесной дороге к Чудскому озеру, оставив за собой поляну, полную свежих могильных крестов. В ольшанике радостно щебетали птицы, над желтыми одуванчиками на показавшемся впереди лугу порхали разноцветные бабочки, а в синем высоком небе сияло солнце.
Трехмачтовая палубная ладья «Святитель Петр» под синим с серебряными медведями новгородским флагом вышла из ревельской гавани почти ровно в полдень и, повернув на восток, взяла курс к Нарве. Кормчий Амос Кульдеев, коренастый мужик с красным обветренным лицом и сивой бородкой, поглаживая нывший на погоду бок под темным бархатом длинного – по стокгольмской моде – кафтана, привычно перекладывал румпель и чувствовал, как под кормой ходит-поворачивается руль, устраиваемый на ладье на манер ганзейского когга. Никаких морских разбойников – хоть ладья и пустилась в путь одна – кормчий не боялся: во-первых – что тут и плыть-то? А кроме того, в сложившейся международной обстановке, когда Новая Русь властно выходила на Балтику, мало кто б сейчас осмелился напасть на новгородское судно: все договоры с могущественной Ганзой новые властелины Руси подтвердили, а недобитых тевтонцев – первый на Балтике флот! – Великий Всея Руси князь Георгий втихомолку поддерживал; так, на всякий случай – в противовес императору Сигизмунду и… против той же Ганзы – мало ли, обнаглеют купчишки?
Каких-либо многочисленных и хорошо организованных пиратских групп, типа не так давно разбитых теми же тевтонцами и Ганзой витальеров, нынче на Балтике не обреталось, однако всякая зубастая мелочь, конечно, шастала – на тех пираний имелись на «Святителе Петре» акульи зубы в виде дюжины секретных «новгородских бомбард», придуманных все тем же князем Георгием, и бьющих тяжелыми оперенными стрелами верст на шесть. Впрочем, бомбарды – это на спокойной воде только, а для всяких неожиданностей держал купчина Амос на своем корабле хорошую абордажную команду в лице бывших ушкуйников знаменитой хлыновской ватаги, некогда заставлявшей дрожать всю Орду, о царице которой – великой ханше Айгиль – ходили самые разные слухи один нелепее другого. Говорят, слухи те распускали враги-конкуренты ханши, в первую голову царевич Яндыз и все такие прочие. Вообще же, теперь не Русь Орде дань платила, а Орда – Руси: за спокойствие от хлыновцев, коих сам великий князь обещал ордынской царице унять – и унял-таки, часть ватажников взяв непосредственно под свое крыло в целях создания мощного флота, а часть – большую! – отправив на покорение Сибири.
Об ордынской правительнице нынче матросики и говорили, косясь на низкие и лесистые ливонские берега, тянувшиеся по правому борту. Особенно не унимался юнга, по-новгородски – «зуек», ма-аленькая такая птичка, на которую как раз и походил юнга – светлоокий, рыжий и веснушчатый до такой степени, что даже не было видно щек. Все так парнишку и кликали: Рыжий, а не Тимоша. Вот этот Рыжий-то всю команду на дальних переходах обычно и забавлял – за то, по большому-то счету, в юнги и взяли.
Нынче же что-то про Орду разговор зашел – судно исправно шло по ветру хорошо знакомым путем, палуба была надраена – больно смотреть, все работы по кораблю исполнены, что еще делать-то? Только лясы точить.
– Говорят, великая ханша Айгиль нраву злобного, а на вид – ну, сущая ведьма! Старая вся, морщинистая, глазки узенькие – татарка ведь, – лицо, как блин, а щеки такие, что…
– Ты на свои щеки посмотри, чудо брехливое! – не выдержав, расхохотался один из ушкуйников, десятник Фома, до того спокойно облокачивавшийся на увешанный красными щитами фальшборт и внимавший отроку вполне благосклонно.
Зуек ничуть не обиделся – он вообще никогда ни на кого не обижался, не имел такой дурацкой привычки: ну, насмехаются люди, так и что с того? И это еще с какой стороны посмотреть: можно ведь сказать – насмехаются, а можно – просто смеются, веселятся, радуются.
Ушкуйник этот, Фома, сразу видно – злодей, разбойник из разбойников: в ухе серьга золотом горит-плавится, пальцы перстями унизаны, сабли рукоять – самоцветами, кафтан свейский, с узорчатым поясом, на ногах – высокие сапоги, а уж лицо… вот уж кто про щеки молчал бы! На свои посмотрел бы – бритые, будто немец какой! Но бритые, может, день назад, а то и все два, и ныне в темной щетине, будто стерня. Вообще, Фому на ладье сторонились, как и ушкуйников его, лиходеев… И зачем только Амос Кульдеевич таких на борт взял? Говорит: от разбойников… так вот они теперь на корабле и есть – разбойнички-ушкуйнички – а кто же?
– Я ж не сам по себе вру, дяденька, – улыбнувшись, учтиво сказал Тимоша. – Просто передаю то, что своими ушами на торговой стороне слыхал от гостей сурожских.
– Врут твои гости сурожские, как сивые мерины! – Ушкуйник неожиданно потрепал отрока по плечу и уселся на скамью-банку рядом. – Ты не обижайся, зуек. Просто я царицу Айгиль видел – в походе ордынском с князем великим был.
– Ах, вон оно что!
Свободные от вахты матросы обступили ушкуйника широким кругом, даже шкипер Амос Кульдеев, кликнув сменщика, подошел – бывалого-то человека всегда интересно послушать.
– Расскажи, Фома, расскажи!
– Да не рассказчик я…
– Так, говоришь, у самого князя Егора служил?
– У воеводы Никиты по прозвищу Купи Веник.
– О! То человек знаменитый. Воин! Так что ханша?
– Никакая она не старая. – Улыбнувшись, ушкуйник мечтательно посмотрел в небо, на белых, кружащих над мачтами чаек. – Наоборот – молода даже очень. И красива – как солнце, не отвести взгляд. Худовата – да… как и наша княгинюшка, но красавица и, говорят, умна. К людям молодая ханша приветлива, за что народ ее и любит, но на расправу крута…
– Все они на расправу круты, – вставил кто-то, и кормчий тотчас погрозил охальнику кулаком – мол, ты тут смотри, паря, не очень-то власть критикуй, не то…
Так вот почти до самого вечера и проговорили, а вечером погода испортилась, как оно обычно на море Варяжском бывает. Ветер злой да колючий подул, погнал волну, натянул исходящие мелким дождем тучи, да так, что кормчий решил ночью в бухточке знакомой на якорь встать, отсидеться. Так-то, если бы погода позволила, можно было б и ночью идти – просто мористее взять, чтоб, не дай бог, не наскочить на песчаную отмель. Да Амос Кульдеев тут все мели знал! И все же непогодь решил переждать – оно спокойней как-то.
Встали на якорь в местечке приметном – напротив кривой сосны, да сплавали на лодке к берегу, набрали ключевой водички. Капал по палубе дождь, и спать все полегли рано: кому положено – в каморках на корме, кто – в подпалубье, остальные же разбили меж мачтами узкий шатер, в нем и улеглись вповалку.
– До озера доберемся, а там людишек наймем. – Афоня даже как-то сразу повзрослел, чувствуя нежданно-негаданно свалившуюся ему на голову ответственность, которую – отрок это хорошо видел – больше не был готов разделить никто: ни новгородский приказчик Кольша, ни – уж тем более – Микитка-раб.
О челядине тоже, кстати, следовало подумать.
– Ты чей раб, Микита? Дядюшкин?
– Его…
– Дядюшка Семен Игнатьич, упокой его, господи, вдовец… думаю, ты и не раб боле!
– Как это не раб? – вскинулся Кольша.
– Не раб! – твердо повторил Афоня. – Дядюшка – вдовец, и ныне хозяина тебе, Микита, нету.
– Что ж мне – в изгои, что ль? – Челядин в ужасе округлил глаза. – Скитаться? Совсем пропасть?
– Почему в изгои? – рассудительно промолвил Афоня. – Я так думаю, в рядовичи мы тебя в Новгороде поверстаем…
– В рядовичи?! – В карих глазах раба вспыхнула радость.
– Да, в рядовичи! Так, как служил – и будешь дальше служить, токмо уж по ряду. Да не бойся, не бросим, тем более – после такого вот… Нам бы обоз довести, тут ведь и соль, и крицы медные – многие кузнецы в Новгороде его ждут не дождутся. Раз уж мы живы – доведем, наймем возчиков – серебро у дядюшки было – искать надо. Ну, что смотрите? Обыщем всех да за лопаты. Нам еще до озера добираться.
С трудом, с передышками, но вырыли-таки могилы, погребли всех, срубили-поставили кресты. Потом по очереди стали читать молитвы, уж как умели, что знали…
Кольшу пару раз вырвало, и он ушел к ручью – умыться… А серебришко, кстати, – нашли! Правда, не так уж и много.
– Одному хватит, – оглядываясь на ушедшего Кольшу, тихо промолвил раб. – Видал, Афоня, как он на серебро зыркал? Собла-а-азн!
– Да какой соблазн? – усмехнулся отрок. – У Кольши в Новгороде и дом, и семейство – куда он денется-то?
– Как бы он нас не…
– Да что ты такое говоришь-то!
– Говорю ж – соблазн! – тряхнув темными кудрями, упрямо повторил Микита. – А Кольша – не святой Павел. Ничо, Афанасий, – спокоен будь, я уж за ним прослежу.
– Однако, – Афоня зябко повел плечом, хотя было довольно жарко, – смотрю, не шибко-то ты приказчика нашего жалуешь…
– Видал кое-что… – Снова оглянувшись, челядин понизил голос до шепота: – Его рыцарь один едва не пришиб… да Кольша заскулил – тот его в живых и оставил… Похоже, что одного – он, приказчик-то, последний и оставался – в ракитнике.
– Не убил, говоришь? – Юный охотник в недоверчивом удивлении вскинул левую бровь. – Так что ж – сжалился?
– Кто его знает? Может – и так.
– А зачем свидетеля в живых оставлять? Не знаешь? – Глянув на собеседника, Афоня махнул рукой: – Вот и я не знаю. А что за рыцарь-то?
– Такой, лет, может, тридцать или поболе. Лицом худ, бородка рыжеватая, острая… да, в левом ухе – серьга золотая!
– Золотая?
– Неужто рыцарь будет медяшку носить?
– Знаешь, Микита, тевтонские немцы не просто рыцари, но еще и монахи. По уставу орденскому у них вообще никаких серег быть не должно!
Тут вернулся и Кольша, разговор на том и закончился – парни запрягли лошадей и, связав возы цугом, неспешно подались по лесной дороге к Чудскому озеру, оставив за собой поляну, полную свежих могильных крестов. В ольшанике радостно щебетали птицы, над желтыми одуванчиками на показавшемся впереди лугу порхали разноцветные бабочки, а в синем высоком небе сияло солнце.
Трехмачтовая палубная ладья «Святитель Петр» под синим с серебряными медведями новгородским флагом вышла из ревельской гавани почти ровно в полдень и, повернув на восток, взяла курс к Нарве. Кормчий Амос Кульдеев, коренастый мужик с красным обветренным лицом и сивой бородкой, поглаживая нывший на погоду бок под темным бархатом длинного – по стокгольмской моде – кафтана, привычно перекладывал румпель и чувствовал, как под кормой ходит-поворачивается руль, устраиваемый на ладье на манер ганзейского когга. Никаких морских разбойников – хоть ладья и пустилась в путь одна – кормчий не боялся: во-первых – что тут и плыть-то? А кроме того, в сложившейся международной обстановке, когда Новая Русь властно выходила на Балтику, мало кто б сейчас осмелился напасть на новгородское судно: все договоры с могущественной Ганзой новые властелины Руси подтвердили, а недобитых тевтонцев – первый на Балтике флот! – Великий Всея Руси князь Георгий втихомолку поддерживал; так, на всякий случай – в противовес императору Сигизмунду и… против той же Ганзы – мало ли, обнаглеют купчишки?
Каких-либо многочисленных и хорошо организованных пиратских групп, типа не так давно разбитых теми же тевтонцами и Ганзой витальеров, нынче на Балтике не обреталось, однако всякая зубастая мелочь, конечно, шастала – на тех пираний имелись на «Святителе Петре» акульи зубы в виде дюжины секретных «новгородских бомбард», придуманных все тем же князем Георгием, и бьющих тяжелыми оперенными стрелами верст на шесть. Впрочем, бомбарды – это на спокойной воде только, а для всяких неожиданностей держал купчина Амос на своем корабле хорошую абордажную команду в лице бывших ушкуйников знаменитой хлыновской ватаги, некогда заставлявшей дрожать всю Орду, о царице которой – великой ханше Айгиль – ходили самые разные слухи один нелепее другого. Говорят, слухи те распускали враги-конкуренты ханши, в первую голову царевич Яндыз и все такие прочие. Вообще же, теперь не Русь Орде дань платила, а Орда – Руси: за спокойствие от хлыновцев, коих сам великий князь обещал ордынской царице унять – и унял-таки, часть ватажников взяв непосредственно под свое крыло в целях создания мощного флота, а часть – большую! – отправив на покорение Сибири.
Об ордынской правительнице нынче матросики и говорили, косясь на низкие и лесистые ливонские берега, тянувшиеся по правому борту. Особенно не унимался юнга, по-новгородски – «зуек», ма-аленькая такая птичка, на которую как раз и походил юнга – светлоокий, рыжий и веснушчатый до такой степени, что даже не было видно щек. Все так парнишку и кликали: Рыжий, а не Тимоша. Вот этот Рыжий-то всю команду на дальних переходах обычно и забавлял – за то, по большому-то счету, в юнги и взяли.
Нынче же что-то про Орду разговор зашел – судно исправно шло по ветру хорошо знакомым путем, палуба была надраена – больно смотреть, все работы по кораблю исполнены, что еще делать-то? Только лясы точить.
– Говорят, великая ханша Айгиль нраву злобного, а на вид – ну, сущая ведьма! Старая вся, морщинистая, глазки узенькие – татарка ведь, – лицо, как блин, а щеки такие, что…
– Ты на свои щеки посмотри, чудо брехливое! – не выдержав, расхохотался один из ушкуйников, десятник Фома, до того спокойно облокачивавшийся на увешанный красными щитами фальшборт и внимавший отроку вполне благосклонно.
Зуек ничуть не обиделся – он вообще никогда ни на кого не обижался, не имел такой дурацкой привычки: ну, насмехаются люди, так и что с того? И это еще с какой стороны посмотреть: можно ведь сказать – насмехаются, а можно – просто смеются, веселятся, радуются.
Ушкуйник этот, Фома, сразу видно – злодей, разбойник из разбойников: в ухе серьга золотом горит-плавится, пальцы перстями унизаны, сабли рукоять – самоцветами, кафтан свейский, с узорчатым поясом, на ногах – высокие сапоги, а уж лицо… вот уж кто про щеки молчал бы! На свои посмотрел бы – бритые, будто немец какой! Но бритые, может, день назад, а то и все два, и ныне в темной щетине, будто стерня. Вообще, Фому на ладье сторонились, как и ушкуйников его, лиходеев… И зачем только Амос Кульдеевич таких на борт взял? Говорит: от разбойников… так вот они теперь на корабле и есть – разбойнички-ушкуйнички – а кто же?
– Я ж не сам по себе вру, дяденька, – улыбнувшись, учтиво сказал Тимоша. – Просто передаю то, что своими ушами на торговой стороне слыхал от гостей сурожских.
– Врут твои гости сурожские, как сивые мерины! – Ушкуйник неожиданно потрепал отрока по плечу и уселся на скамью-банку рядом. – Ты не обижайся, зуек. Просто я царицу Айгиль видел – в походе ордынском с князем великим был.
– Ах, вон оно что!
Свободные от вахты матросы обступили ушкуйника широким кругом, даже шкипер Амос Кульдеев, кликнув сменщика, подошел – бывалого-то человека всегда интересно послушать.
– Расскажи, Фома, расскажи!
– Да не рассказчик я…
– Так, говоришь, у самого князя Егора служил?
– У воеводы Никиты по прозвищу Купи Веник.
– О! То человек знаменитый. Воин! Так что ханша?
– Никакая она не старая. – Улыбнувшись, ушкуйник мечтательно посмотрел в небо, на белых, кружащих над мачтами чаек. – Наоборот – молода даже очень. И красива – как солнце, не отвести взгляд. Худовата – да… как и наша княгинюшка, но красавица и, говорят, умна. К людям молодая ханша приветлива, за что народ ее и любит, но на расправу крута…
– Все они на расправу круты, – вставил кто-то, и кормчий тотчас погрозил охальнику кулаком – мол, ты тут смотри, паря, не очень-то власть критикуй, не то…
Так вот почти до самого вечера и проговорили, а вечером погода испортилась, как оно обычно на море Варяжском бывает. Ветер злой да колючий подул, погнал волну, натянул исходящие мелким дождем тучи, да так, что кормчий решил ночью в бухточке знакомой на якорь встать, отсидеться. Так-то, если бы погода позволила, можно было б и ночью идти – просто мористее взять, чтоб, не дай бог, не наскочить на песчаную отмель. Да Амос Кульдеев тут все мели знал! И все же непогодь решил переждать – оно спокойней как-то.
Встали на якорь в местечке приметном – напротив кривой сосны, да сплавали на лодке к берегу, набрали ключевой водички. Капал по палубе дождь, и спать все полегли рано: кому положено – в каморках на корме, кто – в подпалубье, остальные же разбили меж мачтами узкий шатер, в нем и улеглись вповалку.