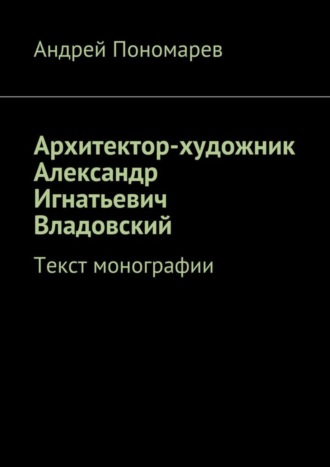
Архитектор-художник Александр Игнатьевич Владовский. Текст монографии
Этот новый, действительно современный стиль для того, чтобы стать подлинным представителем нас самих и нашего времени, должен будет привести к четко выраженной в наших произведениях смене прежних понятий и представлений, к почти полному крушению романтизма, к почти все подчиняющему себе господству разума… Такая точка зрения исключает, естественно, возможность использования какого-либо исторического стиля в качестве исходного для любого современного архитектурного произведения; архитектор должен, наоборот, стремиться к созданию совершенно новых форм или развивать те формы, которые лучше всего отвечают современным конструкциям и требованиям и тем самым являются наиболее правдивыми»22.
Хотя модерн явил собой попытку создания архитектурного стиля, свободного от использования исторических стилей прошлого, в России сильное влияние на него оказали национальные традиции. Наиболее заметно это воплотилось в неорусском стиле, зародившемся в художественных кружках Абрамцева и Талашкина, постройки в которых являлись уже не цитатами на тему русской архитектуры, что было свойственно эклектике, а обобщенными стилизациями в духе древнерусского зодчества.
В русскую архитектурную практику, в отличие от Западной Европы, модерн пришел с некоторым опозданием, но уже в начале 1900-х годов заметно потеснил эклектику и получил массовое распространение.
Б. М. Кириков в качестве отправной вехи становления русского модерна считает дачу великого князя Бориса Владимировича, построенную в Царском Селе в 1896—1897 годах по проекту британских архитекторов Шернборна и Скотта23. «На первых порах броские черты нового стиля (криволинейные формы, стилизованные узоры) нередко проявлялись лишь во внешнем оформлении фасадов и интерьеров. Глубинные принципы модерна – свободная и функциональная организация плана, разнообъемная структура, перетекающие пространства и органическая взаимосвязь частей, словно вытекающих одна из другой, – полнее всего реализовались в строительстве особняков и некоторых других зданий (самое значительное – Витебский вокзал)»24.
Петербургский модерн избежал вычурных крайностей. Этому во многом способствовала городская среда, где памятники нового стиля должны были сосуществовать со сложившимися классическими ансамблями.
Одним из ярких направлений модерна в России стал северный модерн – региональный вариант стиля, сложившийся под влиянием шведской и финской архитектуры национального романтизма. На фоне бурных дискуссий о модерне в целом работы финских мастеров, в которых архитектурная критика увидела близкую аналогию поискам, проходившим и в русской архитектуре, – попытку найти национальный стиль, получили высокую оценку критиков.
Гражданский инженер П. М. Макаров в 1906 году писал: «Финляндский стиль заслуживает самого большого внимания, он примыкает к наиболее благородному направлению нового стиля вообще… В своей простоте, строгости и в стремлении находить красоту не одной только орнаментики, а искать ее в массах и контурах зданий финляндский модерн представляет полную противоположность французскому модерну, наиболее крикливому и нелепому»25.
Еще на пике модерна, в 1906—1907 годах в России, как и во многих других странах, практически синхронно возникло ретроспективное направление в архитектуре. Традиционализм начал оттеснять модерн на второй план, а к началу Первой мировой войны занял лидирующие позиции.
В Петербурге ретроспективизм проявился в форме неоклассицизма как направления, возникшего в результате переосмысления собственного исторического опыта, противостоящего при этом исканиям национальной самобытности. Идеология неоклассицизма сложилась в круге «Мира искусства», где суровая величественная красота Петербурга была открыта заново.
В статье «Живописный Петербург» в 1902 году А. Бенуа писал: «…кроме Кремля – весь город [Москва] … скорее безобразен и уж именно безличен – огромный глухой уездный город… Дивные попадаются дома, домики и домищи на этих улицах, изредка торчит среди них очаровательная церковка, а общее впечатление никуда не годно, и прямо даже нелепо.
Совсем другое – Петербург. Он, если красив, то именно в целом или, вернее, огромными кусками, большими ensemble’ами, широкими панорамами, выдержанными в известном типе – чопорном, но прекрасном и величественном… В Петербурге есть именно… жесткий дух, дух порядка, дух формально совершенной жизни, несносный для общего российского разгильдяйства, но, бесспорно, не лишенный прелести»26. «…Петербург – удивительный город, имеющий себе мало подобных по красоте»27.
Бенуа подчеркивал, что для Петербурга не подходит как модерн с «омерзительными лепными „украшениями“», так и попытки сделать город «русским»: «Эти некстати среди ампира выросшие луковицы церквей, эти пестрые, кричащие изразцы, эти стасовские дома с петушками, полотенцами и другими „русскими“ деталями. С одной стороны – лакейство перед западом, жалкая погоня за блеском современной парижской культуры, с другой – лакейство перед Москвой, желание порусеть, стать „симпатичнее“»28.
Модерн и неоклассицизм были своеобразными ответами на архитектуру эклектики, но если первый полностью отвергал существовавшие архитектурные стили с целью создать новый, то второй требовал от архитектора более глубокого погружения в архитектурный стиль прошлого с целью достичь исторической достоверности.
Первыми постройками в Петербурге, определившими поворот к неоклассике, В. Г. Лисовский считает две постройки по проектам Ф. И. Лидваля в 1907—1909 годах – здания Азово-Донского банка на Большой Морской улице и Второго общества взаимного кредита на Садовой улице29.
Сторонники неоклассицизма с осторожностью относились к попыткам введения новаций в архитектурную практику, но вместе с тем они не отказывались полностью и от некоторых приемов модерна, в первую очередь касавшихся конструктивной стороны сооружений.
Архитекторы неоклассицизма стремились к возрождению стилевой целостности Петербурга, развития градостроительной практики с учетом традиционной застройки города. Наиболее ярко это проявилось в неосуществленном «Проекте преобразования С.-Петербурга», разработанном в 1910 году архитекторами Л. Н. Бенуа, М. М. Перетятковичем и инженером Ф. Е. Енакиевым.
В этот сложный для развития архитектуры период проходило формирование зодчих, приступивших к практической деятельности в начале XX века, к которым принадлежал и Александр Владовский.
Несмотря на бурные дебаты о судьбе русской архитектуры, Высшее художественное училище оставалось в стороне от внешних влияний. Модерн в качестве стиля при выполнении курсовых работ не приветствовался. Студенты обращались к различным историческим стилям. При этом одним из главных заданий для каждого был выбор правильного исторического прототипа, соответствующего содержанию учебной работы.
В годы учебы студента Владовского привлекали этюды с натуры, архитектурные пейзажи старых русских городов и зарисовки отдельных элементов зданий. Тогда же написал Александр и несколько акварельных портретов, среди которых – портрет его сестры Елены, изображенной на крыльце дома «в имении тети Оли». Портрет датирован 1898 годом и имеет авторское название «Лолош».
Графические этюды с натуры представлены преимущественно изображением обнаженного женского тела – эту страсть Владовский сохранит на протяжении всей жизни. Наряду с архитектурными зарисовками женские образы займут место в его творчестве как художника.
Интерес Владовского-художника привлекает и женский костюм. Сохранившиеся акварельные наброски свидетельствуют о тщательной проработке всех элементов одежды. Наиболее ярко это проявилось в эскизе костюма гейши, выполненном в 1899 году.
Каждый год Владовский путешествовал по русским городам. В 1898 году посетил Псков и сделал зарисовки древнего города. Из всего цикла рисунков до нашего времени сохранился только вид Довмонтовой (Смердьей) башни в Псковском кремле.
Порой кажется, что А. И. Владовский хотел охватить все направления искусства, так или иначе, но проявить себя в каждом из них. Такая «всеядность» будет свойственна ему не только в период учебы, но и в зрелом возрасте.
Обзор курсовых работ Александра, выполненных в общих классах, позволяет говорить о незаурядной творческой фантазии будущего архитектора, виртуозном владении системой ордера и умении выполнять стилизации в разных архитектурных направлениях.
Мастерское владение акварелью видно уже в первом курсовом проекте 1898 года «Павильон в парке». В качестве архитектурного стиля для выполнения работы А. Владовский выбрал классицизм.
Павильон поставлен на берегу пруда. От пруда к входу в павильон ведет парадная лестница, украшенная вазонами. Сам же вход решен в виде шестиколонного портика коринфского ордера, с широко расставленными центральными колоннами и парными колоннами по бокам. На венчающем портик парапете помещены скульптурные группы и вазоны. В устроенных по сторонам от портика нишах установлены скульптуры.
Плоскость стены павильона рустована. В центральной части фасада – высокие закругленные окна, декорированные наличниками с замковыми камнями. Некоторые вольности в трактовке коринфского ордера (в частности парапет, приближенный по общему композиционному решению к балюстраде) свидетельствуют о господствовавшем в училище эклектичном методе преподавания.
К 1900 году относится одна из наиболее интересных ученических работ А. Владовского – «Охотничий замок. Французский ренессанс». Асимметричному в плане зданию отвечает живописная разнообъемная композиция с башнями в качестве вертикальных акцентов.
Большое значение Владовский придавал силуэту постройки, где важную роль играли сложные высокие крыши, выступающие над карнизом эркеры, угловые башни. Силуэт загородных построек всегда формировался с учетом ландшафта окружающей местности.
Фасад замка, поставленного на цокольный этаж, подчеркнуто асимметричен. Плоскость фасада разделена горизонтальными тягами, что было свойственно архитектуре раннего Возрождения во Франции.
Нижний ярус центрального ризалита обработан рустом, входной проем фланкируют прямоугольные ниши. Верхний же ярус прорезан тремя оконными проемами, отделенными друг от друга полуколоннами. Оконные проемы на фасаде замка и на объемах боковых башен декорированы в барочном стиле. По сторонам от центрального ризалита расположены башни, уравновешивающие друг друга и композицию в целом.
Особое внимание привлекает крыша – высокая, прорезанная окнами-люкарнами на основном объеме, она сочетается с конической и вальмовой крышами угловых башен.
Асимметричное решение фасада, сочетание разных уровней и форм крыш, дополненных шпилями и дымовыми трубами, придают проекту особую живописность. Изображение перепадов рельефа местности также призвано подчеркнуть гармонию постройки в окружающем ландшафте.
Несмотря на преобладание в проекте элементов французской архитектуры эпохи Возрождения, в нем ощущается некоторая эклектичность, свойственная проектам архитектора. Вместе с тем мастерство А. И. Владовского позволило создать достаточно цельную архитектурную композицию. Особенно хорошо в проекте проработаны башни, которые в дальнейшем станут одной из характерных черт его творчества.
1900 и 1901 годами датировано несколько эскизов с натуры. Два из них выполнены во время занятий в натурном классе – обнаженные женские тела.
Третий эскиз выполнен, скорее всего, во время летней поездки Александра по России – «Эскиз с натуры. Отец Сергий пишет письмо». Основное внимание автор уделяет фигуре отца Сергия, изображенной со спины. Письменный стол и стул намечены только легкими штрихами, но даже они позволяют представить убранство кабинета священника. Никаких дополнительных данных для атрибуции эскиза обнаружить не удалось.
Время учебы А. Владовского совпало со временем широкого распространения архитектурных конкурсов, которые проводились по заказам как учреждений, так и частных лиц. Конкурсы не только помогали найти оптимальное решение для строительства, но и давали богатый исходный материал для дальнейшей работы. При этом сами они были достаточно демократичными, и принять участие в конкурсах могли не только дипломированные архитекторы, но и студенты.
За призовые места выплачивались денежные премии, что являлось для авторов премированных работ достаточно ощутимым заработком. Работы на конкурсы, как правило, представлялись под девизами, без указания фамилии архитектора. Авторы проектов раскрывались только после публикации итоговых протоколов конкурса и определения победителей. Конкурсные проекты выставляли на всеобщее обозрение, лучшие из них публиковались.
Участие в конкурсах открывало широкие возможности для молодых архитекторов, которые могли отточить собственное мастерство, а заодно завоевать определенную известность и получить выгодные заказы.
Осенью 1900 года по поручению Киевской городской управы Академией художеств был объявлен конкурс на разработку эскиза главного занавеса Киевского городского оперного театра30.
Первое здание оперы было построено на Театральной площади Киева в 1856 году, но в феврале 1896 года его уничтожил сильный пожар. Проект нового здания театра был разработан В. А. Шрётером. Работы по его сооружению возглавил киевский архитектор В. Н. Николаев. В 1900 году в здании уже велись отделочные работы, а спустя год новый оперный театр открылся для публики.
Его главный фасад, выходящий на Владимирскую улицу, украшали скульптуры грифонов. В альбоме А. И. Владовского сохранилось несколько эскизов драпировки сцены и один из итоговых вариантов проекта. Занавес выполнен в бордовом цвете. Сложная драпировка главного занавеса придает сцене особую торжественность. На заднике сцены использован мотив оформления главного фасада здания оперы – изображения грифонов, размещенные по сторонам от лиры.
По результатам конкурса первая премия в 100 руб. была присуждена художнику В. Т. Перминову, а вторая и третья – в 75 и 50 руб. соответственно – ученику архитектурного отделения А. И. Владовскому31.
На первой ступени обучения в Высшем художественном училище студенты получали фундаментальную подготовку как по теоретическим дисциплинам, так и по рисованию, архитектурной композиции.
Окончивший обучение в 1897 году А. В. Щусев вспоминал об этом: «Архитектурные детали были для нас, как для музыкантов гаммы и этюды… Архитектурный язык классики становился ясен и понятен до мелочей… Вырабатывался свой вкус и чутье к гармонии пропорций, к изысканности линий, уяснялась сущность архитектурного ансамбля… расценивалось значение каждой детали, каждого штриха старых больших мастеров»32.
Не всегда это постижение было легким и безоблачным. Скупые строки архивных документов не раскрывают нам всей картины, но дважды на Совете училища рассматривалось личное дело А. И. Владовского.
5 октября 1899 года Совет постановил: «В случае непосещения классов и непредоставления работ подлежит исключению»33. 1 мая 1900 года тот же Совет училища назначил студенту Владовскому переэкзаменовки по строительной механике и строительному искусству34. В результате оба экзамена были пересданы на «4»35.
3 октября того же года решением Совета Высшего художественного училища А. И. Владовский был признан успешно окончившим классы36. Перед ним открылась возможность следующего шага – выбора мастерской профессора-руководителя. Александр уже не сомневался и решил поступить в мастерскую Л. Н. Бенуа, куда и был принят в феврале 1901 года37.
В октябре Совет Высшего художественного училища постановил: ходатайствовать об отсрочке по отбыванию А. И. Владовским воинской повинности. 13 декабря 1902 года решением Совета ему было назначено ежемесячное пособие38.
Условия обучения в мастерской Бенуа отличались и от начальных архитектурных классов, и от других мастерских профессоров-руководителей. Леонтий Николаевич был не только талантливым зодчим, построившим много зданий различного назначения, но и опытным педагогом. До прихода в Академию художеств он преподавал курс композиции прикладного искусства в школе Общества поощрения художеств, был адъюнкт-профессором Института гражданских инженеров. Л. Бенуа всегда поощрял творческий поиск своих учеников, а в учебный процесс включал примеры и из собственной практики.
Ученики мастерской Л. Н. Бенуа проектировали не только в исторических архитектурных стилях, но и выполняли проекты современных зданий в «новом стиле» – модерне.
В 1902 году Александр Владовский выполнил проект деревянной дачи «в норвежском стиле», удостоенный на конкурсе Архитектурного музея Академии художеств первой премии.
В целом эскиз выглядит как стилизация на тему норвежского деревянного зодчества, вместе с тем в проекте были реализованы основные принципы раннего модерна, когда свободный план постройки сочетается с асимметричной разнообъемной композицией экстерьера.
В плане здание напоминает букву «W», явно выделенный композиционный центр отсутствует. Подобный вариант плана архитектор будет использовать и в некоторых таллиннских постройках.
Здание дачи поставлено на фундамент из дикого камня. Сложная форма крыши, отсутствие обшивки с демонстраций основных особенностей конструкции, свободная группировка окон на фасаде – все это прослеживается в проекте.
Конфигурация крыши дает отсылку к древнейшим ставкиркам Норвегии. Коньки украшены резными изображениями драконов. Трехчастное окно сделано витражным. Чердачное – оформлено в трехлопастную раму, и эту форму повторяет и второе – слуховое окно, устроенное в крыше.
Несмотря на то что особый облик норвежским поселениям придавало яркое цветовое оформление домов, А. Владовский не использовал его в проекте, оставив дом без обшивки. Это связано в первую очередь со слабой проработкой темы истории деревянного зодчества в начале XX века. Образцами для проекта дачи могли послужить рисунки В. В. Суслова, опубликованные в книге «Путевые заметки о севере России и Норвегии» (1888).
Большую роль мог сыграть и наставник – Л. Н. Бенуа, который одним из первых обратился к стилизациям на скандинавские темы. Павильон отдела лесоводства, спроектированный им для Всероссийской выставки 1896 года в Нижнем Новгороде, был выдержан именно в формах скандинавской архитектуры39.
В работе 1902 года «Проект ворот в монастыре» А. Владовский обращается к традициям русской архитектуры XVII века, активно используя при этом выразительные средства модерна, от которого он усваивает в первую очередь декоративные признаки стиля – необычность рисунка архитектурных деталей, мягкость и текучесть форм.
Основной башнеобразный объем выполнен в стилистике русских церквей «иже под колоколы», объединяющих в себе собственно помещение церкви и размещенный над ним ярус звона.
Церковь завершена купольной крышей, над которой на высоком барабане помещена луковичная главка. Четыре боковые главы расположены по углам основного объема. Традиция взаимоуравновешенности объемов (боковой вход, окна разных типов) могла быть взята Владовским из традиции псковской архитектуры, обращение к выразительным средствам которой прослеживается в ряде его проектов.
К этому же времени относится премированный проект трамвайной остановки, также выполненный в стилистике модерна. Остановку в форме небольшого павильона с залом ожидания и расположенным перед ним перроном под навесом венчает крыша сложной формы.
В том же 1902 году Александр представил еще один, совсем экзотический проект – загородный ресторан «в индийском стиле». Судя по отзыву о выставке ученических проектов, эта работа А. Владовского была принята достаточно прохладно.
Архитектор и архитектурный критик Евгений фон Баумгартен писал: «Бесконечно длинный ряд проектов, растянувшийся по «циркулю», производит унылое впечатление… Чрезмерное увлечение новинками нарождающегося стиля лестно тщеславию молодых художников. Таким путем думают они быть оригинальными. Работы показывают, что в угоду подобной оригинальности приносятся в жертву все основные требования красоты – силуэт, пропорция и тому подобное.
По отношению к стилям можно заметить то же самое. Разве можно согласиться с такой трактовкой индийского стиля, какую мы видим у г-на Владовского, обладающего несомненным дарованием (проект загородного ресторана)? Здесь автор, применив все главные приемы браминского стиля, дал кое-где барельефы в «модерне» – вместо характерной скульптуры, испещряющей все стены построек этого стиля. Подобных примеров непонимания формы и элементарных условий красоты можно было бы привести много»40.
Эскиз усадьбы А. Я. Ивановой, датированный 1903 годом, оказался ближе к эклектике. Композиционный центр постройки – увенчанная беседкой башня. К основному объему примыкает закрытая веранда. Главным украшением здания усадьбы являются окна разной формы, выполненные в стилистике модерна.
В отличие от ранних проектов, А. Владовский использует не только обшивку, но и украшает фасад росписью, применяя яркие и сочные цвета, чем придает фасаду особую нарядность. Несмотря на использование различных стилистических приемов, здание усадьбы выглядит достаточно цельным и по композиции напоминает Китайскую (Скрипучую) беседку Екатерининского парка Царского Села.
Тем же годом датирован и конкурсный проект деревянного двухэтажного доходного дома, поставленного на каменный цоколь. Вход устроен в левой части здания. Трехчастное членение главного фасада подчеркивается сложной формой многощипцовой крыши.
Второй этаж отделен от первого аркатурным поясом, больше свойственным каменным постройкам. Наличники на окнах стилизованы под фахверк. Средние окна первого и второго этажей – трехчастные. Проект был удостоен первой премии на конкурсе Архитектурного музея Академии художеств.
Еще 3 марта 1901 года А. И. Владовскому было выдано разрешение на право производства строительных работ41, а первый известный нам комплекс построек, возведенных по проекту архитектора, датируется 1902 годом. Это деревянные раздевальня (купальня) и баня в имении присяжного поверенного Ф. М. фон Крузе «Песчанка» на берегу реки Оредеж. Архитектурный дебют Владовского оказался интересным и многообещающим: комплекс деревянных сооружений в имении сразу привлек к себе внимание.
В путеводителе 1910 года «Сиверская дачная местность по Варшавской железной дороге» об имении «Песчанка» сообщалось: «На крутом песчаном берегу Оредежи, среди леса находится усадьба владельца с господским домом, представляющая из себя в архитектурном отношении большую художественную ценность.
Особенно замечательны фасады, дом в древнерусском, вполне выдержанном стиле, с прекрасными архитектурными линиями, затейливыми башнями и переходами. В таком же выдержанном стиле возведены и остальные хозяйственные постройки.
Чтобы составить себе понятие о степени роскоши упомянутой усадьбы фон Крузе, достаточно сказать, что оборудование усадьбы обошлось ему в 300 000 руб., одна купальня на берегу Оредежа стоит 11 000 руб.»42.
Стилистически решение бани близко к проекту дачи «в норвежском стиле». Баня поставлена на каменный цоколь. Сруб обшит только частично, обшитая часть украшена резьбой преимущественно растительного характера. Помещение раздевальни выделено большим трехчастным окном. Фронтон со стороны раздевальни богато украшен резьбой, в центре которой находится круг – символ солнца и бесконечности.
Для перекрытия основного объема использовано сочетание высокой щипцовой и полувальмовой крыш. Декоративные коньки крыши выполнены в форме драконьих голов, подобным же образом стилизованы и подведенные под основания крыши деревянные консоли. Высокие крыши с причудливыми украшениями коньков и декоративными резными элементами, общая система декора, объемно-пространственная композиция здания позволяют говорить, что одним из источников вдохновения для архитектора в этот период было скандинавское зодчество.
И обращение к данным прототипам было далеко не единичным. Так, аналогичные формы использовал и архитектор С. А. Бржозовский в проектах отдельных павильонов Московско-Виндавско-Рыбинской железной дороги, и гражданский инженер Е. В. Рокицкий в здании дачи Б. Г. Ольшамовского в Вырице.
Купальня была построена на берегу реки Оредеж. Квадратное в плане здание на невысоком каменном подклете увенчано восьмискатной крышей с высокими щипцами. Традиционные приемы деревянного зодчества облекаются А. Владовским в формы модерна.
Фасады купальни украшены огромными круглыми окнами с декоративно обработанными импостами, рядами небольших окон над ними и стилизованными, близкими к палладианским окнами в верхней части фасада, под скатами крыши. Коньки крыши так же, как и в здании бани, сделаны в форме стилизованных голов дракона. Комплекс построек имения «Песчанка» до нашего времени не сохранился.
Первой крупной работой архитектора в Санкт-Петербурге исследователи традиционно считают особняк Н. В. Безобразовой – дочери графа В. А. Стенбок-Фермора, расположенный на Моховой, 34.
Над постройкой Владовский работал совместно с архитектором Ю. Ю. Бенуа и гражданским инженером К. И. Стрегулиным. Проект особняка разработали в 1902 году Ю. Бенуа и А. Владовский, причем имя второго даже не было указано в исходных документах на строительство43. Это не позволяет в полной мере говорить, что именно в проекте принадлежало каждому из архитекторов. Проект особняка был выполнен в псевдоготическом стиле с элементами ренессанса.

