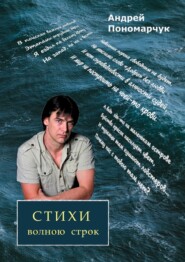По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
А я еду за туманом… Дальневосточная быль
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Семёныч оценил моё поведение и, одобрительно рыгнув, указал мне на одну из алюминиевых кружек, стоявших на бочке с огурцами. Я взял кружку и поднёс её ближе к лицу – в нос резко ударили пары неразведённого спирта.
– Уфф! Это ж спирт… – непроизвольно сморщился я.
– Хррр, хыр, хыр … – прорычал в усмешке Семёныч.
– Чистый! Как моя сооовесть! – поправил он меня, похлопывая ладонью по-товарищески стоявшую перед ним трёхлитровую банку.
– Так впереди ещё совещание. – улыбаясь и изображая недоумение, парировал я.
– Э-эх… Слушай, лейтенант! Спирт в армии – это одновременно «связующее» и «смазывающее» – без него от избыточного трения люди стираются до оголённого нерва, – произнёс он сиплым басом и, выпучив глаза, для наглядности сжал со всей силы в кулаке кусок ржаного хлеба. Затем, подняв кверху указательный палец крепкой волосатой руки, и, не сводя с меня изучающего внимательного взгляда, добавил, – без него нету хода ни нам, ни вертолётам…
Он смотрел на меня какое-то время, вероятно, оценивая правильность моей реакции на глубину и иронию выданной им философской мысли… Затем перевел взгляд на спирт в кружке, осушил её, крякнув, и закусил сдавленным чёрным мякишем.
– Учись, лейтенант! – проревел он, качаясь на деревянном ящике и бешено вращая глазами.
– Ты думаешь, надо быть прилежно уставным, тупым и исполнительным, и тогда всё само собой сложится? – он, слегка подавшись вперёд, опять пристально уставился на меня с лёгким прищуром и, не дождавшись ответа, скрутив огромную волосатую фигу, тихо по слогам прорычал. – НИ- ХРЕ-НА.
– Всё крутится и вертится на знакомствах и отношениях. И никто из начальства тебя близко не подпустит с твоими дурацкими мыслишками и рацпредложениями, хоть ты сотрись до костей на своей службе. – он искал в моих глазах правильный отклик… и, похоже, не нашёл. – Не понимаешь?!
– А вот другое дело – когда после тяжёлой службы ты вместе с командиром «песняка задавишь» по случаю «дня части», ну или… звание кому отметить… Вот там и покажи себя, что и служить, и отдыхать умеешь… Там и по душам поговорить без дистанции можно… со своими рацпредложениями. Командир – он ведь тоже мужик, и мужик крепкий, видит, кто чего стоит. А спирт язык-то развязывает и показывает, у кого какое нутро. Сильный – уважение тебе, а если слюни да сопли, да гниль всякая полезла – то ты потом хоть заслужись, а ходу тебе не будет. Поднимут рюмки за наших «павших», и что ты скажешь тогда? – он поворочался, усаживаясь поудобнее на ящике, посмотрел на меня и, изображая дебильное лицо, судя по всему, копируя меня, ехидным тонким голосом добавил. – «А я не пьюююю».
– Пока стержень в себе не нащупаешь – права не имеешь подчиненных на смерть посылать! Ты понял? – назидательно прорычал он, повысив голос.
Я стоял и улыбался, внимая голимую суть, соль, так сказать, служебного механизма, вынесенную старым служакой невысокого звания через долгие непростые годы службы, и, конечно, в силу молодости и необстрелянности, не воспринимал сказанное всерьёз.
– Учись пить, лейтенант. – рыкнул Семёныч и опрокинул в свою лужёную глотку содержимое предложенной мне ранее кружки. Затем, хмурясь, уставился в потолок, надолго задумавшись о чём-то тревожном и важном, абсолютно потеряв ко мне интерес, закатил глаза и молча съехал на пол между бочками.
Меня подкупала искренность его посыла и очевидное желание донести свою выстраданную правду до ещё незапятнанных лейтенантских мозгов, и было жаль, что я попал на склад лишь к финалу философских бесед.
По прошествии лет, наделав массу ошибок, обломав все имевшиеся в запасе копья о ветряные мельницы армейского абсурда тех злополучных лет, я с улыбкой и теплотой вспоминаю складскую инициацию, устроенную Семёнычем, и по-настоящему жалею, что мало общался с ним.
Серёга
В отсутствие нормального обеспечения, тем не менее, с самого батальона никто не снимал обязанности хоть как-то обеспечивать вертолётный полк, и «комбат» крутился, по выражению Семёныча, как «пёс в рукомойнике». На нём «висели» и склады, и автопарки, и казармы, и столовые, и свинарники, и бани, и …кочегарки. Ну, как же без кочегарок с вечно чумазыми «гномами» в суровые Магдагачинские минус тридцать пять, сорок по Цельсию? Трубы постоянно перемерзали, радиаторы отопления щерились ледяными зубами, электродвижки горели, а на зубах скрипела сажа…
Вместо боевой и политической подготовки между караулами и авралами комбат частенько откомандировывал меня на военном КАМАЗе, гружёном кучей перегоревших электродвигателей, в легендарный таёжный городок под названием Зея.
Городок расположен у южных склонов хребта Тукурингра на берегу одноимённой реки. Он знаменит циклопическим сооружением, которым заперли таёжную красавицу в объятиях горного хребта, сотворив бескрайнее Зейское водохранилище.
Зейскую ГЭС ещё с 60-х строили всей страной в течение 20 лет, и у меня захватывало дух от масштабности проекта и гордости, когда я озирал покорённые горные кручи и бескрайние таёжные просторы со 110 метровой высоты водосбросной стенки.
Уму непостижимо, как впоследствии могла небольшая кучка рыночных умников присвоить себе труды тысяч и тысяч самоотверженных первопроходцев, геологов, маркшейдеров, буровиков, бетонщиков, водителей и строителей различных специальностей советской эпохи, трудившихся во славу Родины и трудового народа.
Население городка в основном составляли люди, приехавшие в своё время на строительство ГЭС, геологи, золотодобытчики и работники леспромхозов. Люди грамотные, открытые и решительные. Суровые условия жизни выковали свои законы и правила взаимоотношений, основанные на взаимовыручке и не прощающие подлость. Так или иначе, деятельность жителей городка была связана с тайгой, в связи с чем почти у каждого имелся «ствол», а то и не один. От этих крепких и сильных людей так и веяло духом первооткрывателей из рассказов Джека Лондона.
В очередной раз, когда я привёз в Зею электродвигатели на перемотку, ко мне подошёл широкоплечий мужчина средних лет и среднего же роста, улыбавшийся во весь железнозубый рот. С бородой и чёрными бездонными глазами, одетый в меховую куртку, расстёгнутую настежь, свитер грубой вязки, в пышной лисьей шапке с хвостом назад и с кожаным чехлом от ружья, закинутым за спину, он напоминал мне басмача из какого-то героического советского фильма.
– Здорово! Ты что ли будешь Пономарчук? – по-свойски открыто спросил он.
– Да. – ответил я с лёгким недоумением. – Чем обязан?
– Ничем ты не обязан. Ты тёзка мой! – сказал он, широко улыбаясь, и принялся трясти мою руку.
Сергей, так его звали, узнал обо мне от братьев, которые занимались в городе Зея перемоткой электродвигателей, они-то и вычислили меня по фамилии в приёмо-сдаточном акте.
Мы пообщались, и он сразу пригласил меня к себе домой. Я как-то не был готов к такому позитивному напору и отказался, сославшись на необходимость возвращаться в воинскую часть, но его открытость и доброжелательность мне импонировали, и я, в свою очередь, чисто формально пригласил его к себе домой в Магдагачи.
Дело было в начале сурового декабря, и вернувшись в часть, я с головой погрузился в круговерть ежедневных никому не нужных тягот и подвигов, что напрочь выбило из моей памяти крепкого таёжного парня.
Где-то через неделю, часов в десять вечера в дверь моей однокомнатной служебной квартиры кто-то настойчиво постучал. Жена – молодая и хрупкая девочка, вывезенная мною из далёкой, сытой и культурной Прибалтики, вопросительно посмотрела на меня широко открытыми, подёрнутыми постоянным страхом перед неизвестностью глазами. Для неё каждый день в Магдагачах был настоящим испытанием, но она держалась «молодцом» и постепенно осваивала нелёгкую профессию жены офицера. Я успокоил её и, ругнувшись, пошёл открывать дверь в ожидании неотвратимого очередного ночного аврала.
Однако, стоило мне открыть дверь, как в неё ввалился улыбающийся Серёга – бородатый, в лисьей шапке, с большим рюкзаком за спиной и карабином в руке. Сказать, что я обалдел – значит, не сказать ничего, а в глазах жены стоял просто тихий ужас.
Но Серёга озарил нас своей железной улыбкой, поздоровался, поставил «ствол», скинул с плеча рюкзак, снял шапку и начал разуваться. Я, пожав ему руку, пригласил его на кухню, поскольку в комнате спала маленькая дочка, одновременно дав понять жене, что надо чего-нибудь организовать «на стол». Нина достала из-под подоконника две банки тушёнки, банку кабачковой икры, печенье и замерла возле окна в лёгком шоке. Потом тихим голосом сказала, что это всё… но есть ещё макароны, и их надо варить.
Назревала неловкая пауза, поскольку еды дома не было, а «продпаёк» я ещё не получил.
Однако, неловкой паузы не случилось, ибо Сергей, едва успев познакомиться с Ниной, сообщил ей, что беспокоиться не стоит, и начал, как натуральный Дед Мороз, извлекать из своего огромного рюкзака всякую снедь. К ужасу жены и моему удивлению, он вытащил и положил на кухонный стол четыре ободранных замороженных косульих ноги, перепачканный кровью пакет, как оказалось позднее, с косульей печенью, три банки с различными соленьями, круглый каравай хлеба и целлофановый пакет с шоколадными конфетами. После чего попросил у Нины сковородку и нож. Нина, как загипнотизированный кролик, робко протянула ему наш кухонный нож.
Неодобрительно пощупав пальцем лезвие нашего ножа, Сергей вытащил из ножен, висевших у него на поясе, свой охотничий. Он взял мёрзлую косулью ляжку и начал строгать мясо прямо на сковородку, параллельно рассказывая нам про звериные следы, которые он видел на пути в Магдагачи.
Уже через пятнадцать минут: стол ломился от разносолов, на плите «шкварчало» мясо, Серёга угощал меня ломтиками сырой косульей печени с луком, а Нина пила горячий чай с шоколадными конфетами и, как ребёнок, хлопала удивлёнными глазами.
Общение текло само собой – непринуждённо и приятно. Под мясо я выставил пол-литра разведённого спирта, но Сергей категорически отверг предложение, сказав, что не пьёт от слова «вообще», и мы, вооружившись вилками, напали на нежную благоухающую дичь.
Он рассказывал, как работал в геологической партии, как мыл золото в артелях, извлекая из памяти различные смешные и курьёзные случаи, а я воодушевлённо слушал и сетовал на то, что отец, служа в советской армии, успевал и служить с удовольствием, и по заграницам ездить, и охотиться, и призы получать за меткую стрельбу… а у меня в Магдагачах сплошное выживание – неблагодарное и будничное.
Вникнув в мои чаяния и узнав, что на новогодние праздники у меня намечается аж четыре выходных, и имеется определённый спиртовой запас, Сергей предложил мне съездить на его «Ниве» в Бомнак за соболями, а заодно проветриться и поохотиться. Я просто не верил своим ушам и, конечно же, согласился.
Спать легли мы далеко за полночь. Сергей без претензий завалился на постеленные на пол куртки и шубы и засопел. Наутро мы перекусили остатками мяса и разъехались в разные стороны: он на своей красной «Ниве» куда-то в сторону Шимановска, а я – на дежурной машине в сторону кочегарок, казарм и караулок.
Ближе к Новому году, вечером условленного дня, Сергей приехал за мной на своей «Ниве», и мы отправились в наше увлекательное путешествие, срезая дорогу до города Зея через полузаброшенные таёжные деревеньки.
Одетые в снеговые шапки сосновые и еловые ветки, свешивавшиеся по обеим сторонам узкой лесной дороги, в свете фар мне казались лапами хищных таёжных великанов, охотящихся на беспечных людишек, которые, понадеявшись на надёжность своего «стального коня», осмелились сунуться в эту морозную ночь в их непролазную дремучую чащу. Я смотрел на заснеженную колею дороги, петлявшую и постоянно подкидывавшую под наши колёса ветки с коварными острыми сучьями, и, не показывая вида, немного волновался от мысли, что «Нива» – то… может ведь и заглохнуть…
Однако, Сергей моих опасений не разделял и, как показало время, его абсолютная уверенность не была бравадой, поскольку основывалась на богатом опыте выживания в суровых таёжных условиях. Он рассказывал мне увлекательные истории из своей жизни, «зарезая» время от времени обочины лесной дороги и освещая фарами попадавшиеся опушки и луговины в поисках «глаз». Охота «из-под фары» – это был обычный способ для тех мест между делом разжиться диким мясом к ужину, в связи с чем карабин у него всегда лежал наготове между сиденьями.
Посреди глухого леса в просвете между деревьями показались несколько торчавших из сугроба деревянных крыш. Удалённость от цивилизации и бессмысленность, с моей точки зрения, нахождения их здесь давало мне полную уверенность в том, что это были постройки какого-нибудь заброшенного леспромхоза, однако собачий лай и упиравшиеся в чёрное морозное небо ровные столбы дыма говорили об обратном.
– Это деревня Пионер. – пояснил Сергей, глядя на застывший в моих глазах немой вопрос.
– Прошлой зимой тут шатун вломился в избу и задрал женщину. – спокойно продолжил он пояснения.
– Как это? – изумлённо спросил я.
На что Сергей обыденно рассказал мне, что время от времени медведи, которых здесь много, недобирают жира и встают из зимней спячки раньше срока, а поскольку выжить косолапому зимой – нереально, то он обычно пропадает или идёт напролом к человеческому жилью…
– Как, как? – продолжил он. – Ночью задавил привязанную собаку, вломился в окно и сходу оторвал хозяйке голову. Мужики-соседи на шум с собаками прибежали – застрелили шатуна, а у того лапы до локтей отморожены, как четыре деревяшки…