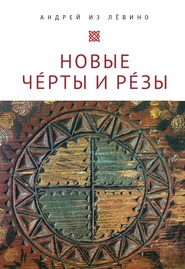По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Лекции о Достоевском
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
«Я всё-таки знаю, лучше всех этих опытных и премудрых ответчиков и покивателей знаю. Но я остаюсь в Петербурге; я не выеду из Петербурга»[77 - Там же.].
Что же так манит героя в Петербурге? Чем Петербург его завлекает? Несколькими строками ниже Достоевский даёт ответ и на этот вопрос.
Дело в том, что для «развитого человека» девятнадцатого столетия главной его отличительной особенностью является «сильно развитое сознание», которого могло бы быть вполовину меньше того, которое есть. Резонно спросить: так в чём же дело?
Дело в том, что люди с «обыкновенным сознанием» и живут в обыкновенных городах (местах), и, наоборот, люди с непомерно развитым сознанием – я бы сказал с гипертрофированным – и жить должны в соответствующих такому сознанию месте: особом городе, который сам необыкновенен (в чём-то гипертрофирован).
Так и получается у Достоевского. Его герой имеет несчастье жить
«…в Петербурге, в самом отвлечённом и умышленном городе на всём земном шаре. (Города бывают умышленные и неумышленные)»[78 - Достоевский Ф.М., Записки из подполья, Т. IV, С. 581 .].
И чуть ниже Достоевский дополняет картину:
«Но всё-таки я крепко убежден, не только очень много сознания, но даже и всякое сознание – болезнь»[79 - Там же.].
Вот теперь картина-головоломка складывается полностью. Герой Достоевского, имея приличный капитал, не хочет покидать Петербург по вполне понятной причине – он болен. Болен такой странной умственной болезнью как «сознание» и, хотя его телесное здоровье также находится в плачевном состоянии, ибо климат Петербурга ему вреден, покидать этот город он ни за что не соглашается. Почему, опять спросим мы? Ответ очевиден – сам Петербург есть «умышленный город», то есть он является таким местом, в котором пространство организованно опять же умышленно, то есть – с использованием сознания. Организация пространства этого города сама противоестественна. То есть, несколько усиливая этот мысленный ход – больна.
Во-первых, город построен на болоте[80 - Я, конечно, отдаю себе отчёт в том, что и Рим был построен рядом с болотом, то есть «на болоте». Поэтому, может быть, и есть что-то «климатически» общее в тих двух городах?!. Ведь и Рим был «умышленным». Буквально: был продолжением «шага Ромула».], а не на возвышенном месте, как это случалось всегда при естественном появлении большинства древних городов: Киев, Владимир, Москва и т.д.
Во-вторых, город Петербург, как именно искусственно организованное пространство, учреждался умышленно – по заранее разработанному плану Петра, его помощников и последователей. Памятником такой «умышленности» может служить планировка Васильевского острова. Но и радиальная структура материковой части города с её проспектами – тоже отличается «умышленной продуманностью». «Петербургские сквозняки» и поразительная продуваемость улиц стали в литературе притчей об этом городе.
Да и сама атмосфера в этом умышленном городе оставляет, по словам Достоевского, желать лучшего:
«Да вот ещё: я убеждён, что в Петербурге много народу, ходя, говорят сами с собой. Это город полусумасшедших. Если б у нас были науки, то медики, юристы и философы могли бы сделать над Петербургом драгоценнейшие исследования, каждый по своей специальности»[81 - Достоевский Ф.М., Преступление и наказание, Т. VI, С.602.].
Другими словами, герой Достоевского умышленно «стремится» в Петербург именно потому, что сам этот город – «умышленный», и, следовательно, сам этот город является наилучшим местом для всего умышленного. Можно сказать, что подобное стремится к подобному: точно так же как «болезненное – к болезненному».
Петербург 19-го века – это столица Российской империи, в которой на момент написания «Записок из подполья» (1862–1864) проживало около 600 000 человек, а концу 80-х – почти миллион.
Очевидно, что все эти люди, во всяком случае, в своём большинстве, были оторваны от почвы. И это при том, что Империя измерялась 1 1 часовыми поясами.
По меркам 19-го века это было гигантское скопище людей, своеобразный «Человеконакопитель». Современным аналогом человеконакопителя служит термин «мегаполис», однако последний делает акцент не на «человеке», а, образно выражаясь – на «стенах».
Чем же так манит отставного коллежского асессора такой человеко-накопитель как Петербург? Именно своей главной особенностью – ненормальностью, подчеркнуто увеличенным сознанием, его болезненностью, но даже и не только этим. Главное в человеконакопителе для героя Достоевского – его собственная востребованность в нём. Он знает, что болезненные истечения его сознания будут востребованы такими же точно существами, с точно таким же болезненным сознанием. Ведь и сами «Записки из Подполья» есть ни что иное как послание или даже «крик» одного болезненного сознания – другим сознаниям. Крик, который должен быть услышан.
Там, за пределами Петербурга, где жизнь течёт своим естественным потоком и всё идёт своим чередом, он будет просто не нужен, ведь сознание его обитателей – здор?во и не нуждается в постоянном самоудостоверении методом отражения в сознаниях себе подобных. Человек с «обычным» сознанием, в терминологии Достоевского, всегда самодостаточен. У него нет потребности или даже нужды самоудостоверения. За этим, по видимости, простым наблюдением, на самом деле разверзается пропасть, обнаруживаемая между христианским (несколько шире – библейским) и античным (несколько шире – небиблейским) пониманием природы человека.
Вечные «самокопания», вечное стремление поймать отражение своего сознания в сознаниях других, так свойственное христианству с его бесконечными «исповедями», требованием «вывернуть всего себя наружу», или, говоря на современном сленге – требованием «выложить всего себя для сетевого сообщества», и принявшее в современном мире трансформированную форму «исповедующего священника» в лице «исповедующего психотерапевта», всё это противостояло совершенно другой традиции – традиции самодостаточного и самоценного индивида, не нуждающегося ни в каких антропоморфных зеркалах.
Здесь же, в очаге болезни, в очаге умышленности – всё иначе. Отказаться от этой целительной процедуры «самоудостоверения с помощью отражения в сознаниях себе подобных» значит для больного «сознанием» человека вступить на путь саморазрушения. Этого он как раз и не может себе позволить.
Жизнь не в человеконакопителе для него буквально глупа. Ведь человек без постоянной ноши сознания, по мнению героя «Записок из Подполья» – глуп:
«Ну-съ, такого-то вот непосредственного человека я и считаю настоящим, нормальным человеком, каким хотела его видеть сама нежная мать-природа, любезно зарождая его на Земле. Я такому человеку до крайней желчи завидую. Он глуп, я в этом с вами не спорю, но, может быть, нормальный человек и должен быть глуп, почему вы знаете?»[82 - Достоевский Ф.М., Записки из подполья, Т. IV, С. 585.].
Поразительно, но в повести Достоевского «Записки из Подполья» мы видим всё ту же коллизию, тот же искус, через который прошли почти все развитые народы: соблазн углубления в самосознание. Соблазн болезненный и исключительно опасный. Вспомним, как его переживала греческая культура. Сократ задавал, казалось бы, рядовой вопрос: что мне толку с того, что я знаю, как устроен подлунный мир из четырёх стихий? И далее он сетовал: ведь к моему знанию о себе самом это знание о веществе ровным счётом ничего не прибавляет! Недоумение Сократа рождало стратагему, высеченную на храме Аполлона: познай самого себя!
Если бы линии Сократа удалось одержать верх – мы не имели бы (вполне возможно) развитых форм философии, которые с очевидностью обнаруживаем у Платона и Аристотеля. Именно благодаря Платону, который приблизительно к 45–50 годам своей жизни изживает в себе «сократизм», то есть как раз этот самый искус «сознания», мы получаем зрелую философию, в которой «зеркало Сознания» заменяется на «зеркало Космоса». Фундаментальный вывод Платона заключался именно в том, что для ответа на вопрос: «Кто такой человек?» следовало вглядываться не в «самого себя», а внимательно вглядываться в Космос, выступающий в своих круговых движениях образцом для круговращения ума человеческого. И поэтому сократовское «Познай самого себя» (????? ??????) заменяется на Платоновское «Не геометр, да не войдёт сюда» (???????????? ?????? ??????). Поразительно, но «противоречие» как форма соотношения понятий и как двигатель любого демонстративного знания, восходит к Дионису, а не к Аполлону[83 - См.: Павленко А.Н., Теория и театр, Санкт-Петербург, Издательство СПб-ГУ, 2006, Гл.1 .].
Фактически, Платон спасает греческую (шире – всю европейскую) мысль (вообще – культуру) от болезни «сознания», которой пытался её инфицировать Сократ[84 - Заметим, что русская мысль и культура, за редчайшими исключениями, эту болезнь в себе так и не изжила, и не излечила.], а также некоторые его предшественники и современники («умники» из «Малой Азии») – софисты. В истории русской мысли мы видим почти повторяющуюся ситуацию. Достоевский устами героя «Записок из Подполья» стремится погрузить нас в область сознания. Однако при этом сам Достоевский как гениальный повествователь правды жизни – сам же и констатирует опасность этого. Он словно предостерегает нас от этого пагубного занятия – путешествия в самосознание (и самопознание), занятие исключительно опасное, нарекая его «болезнью». Спасибо ему за это!
Итак, что мы имеем в сухом остатке? А имеем мы следующее: в неестественном (не скажу «противоестественном») и больном городе живут больные «сознанием» люди. Эта болезнь для них превратилась в некий род зависимости – ведь они уже и не могут жить иначе! Жизнь, не сопровождаемая для них истечениями (продуктами) сознания, – глупа и никчёмна. И городом этим является Петербург, самый «умышленный город» на всём земном шаре. А, стало быть – и самый больной.
Вопрос о «городе-машине II»
Подойдём теперь к анализу города-машины с другой точки зрения.
По видимости, город-машина или по-другому – человеконакопитель – подавляет человека. В большинстве случаев слабый человек оказывается раздавлен этим городом, что и отмечает Достоевский в «Преступлении и наказании»:
«Чёрт возьми! Народ пьянствует, молодежь образованная от бездействия перегорает в несбыточных снах и грёзах, уродуется в теориях; откуда-то жиды наехали, прячут деньги, а всё остальное развратничает. Так и пахнул на меня этот город с первых часов знакомым запахом»[85 - Достоевский Ф.М., Преступление и наказание, Т. VI, С.621 .].
И Достоевский блестяще описывает быт и нравы раздавленных людей – униженных, оскорбленных и бедных. Однако это силовое воздействие человеконакопителя на самого человека отнюдь не исчерпывает все способы и формы воздействия. Покажем это.
В человеконакопителе, именно как в городе-машине, жизнь человека утрачивает свою неповторимую природную и данную Богами индивидуальность. Что же происходит с этой индивидуальностью? Конечно, во времена Достоевского эти процессы ещё не достигли тех явных форм, которые мы наблюдаем сегодня[86 - См.: Павленко Андрей, Возможность техники, С.П. г., Алетейя, 2010, Гл.2.], но в своих зачаточных чертах были уже вполне различимы.
Итак, что это за процессы, которые происходят с индивидуальностью человека в городе-машине? Однажды, в «Возможности техники», я уже описал их подробно: в человеконакопителе человеческая индивидуальность стандартизируется, минимизируется и функционализируется.
Легко обратить внимание на то, что реализация любой из них, одновременно запускает механизм осуществления двух других.
Функция, которую исполнял герой Достоевского – коллежский асессор. Это была так называемая «служба». Кто хорошо знаком с Петербургом, тот знает, что «Двенадцать коллегий» – этот аналог имперских министерств – были учреждены Петром Первым. Сейчас в них расположено Главное здание Санкт-Петербургского университета.
Коллежский асессор – это одна из самых невысоких ступеней в административной иерархии – служащий VIII класса Табеля о рангах в Российской Империи, соответствовавший, приблизительно, званию майора в армии.
Выйдя в отставку, герой Достоевского, по видимости, делает себя свободным от «тягот службы». Однако только по видимости. Дело в том, что город-машина требует плату за освобождение от функционализма. Человек, потеряв «место» в функциональной системе, мгновенно перемещается на периферию цивилизации, – в «угол» на «краю города». Могут возразить: так, ведь он же жил там до отставки. Да, это так. Но до отставки он лишь «снимал угол», т.е. перед ним сохранялась перспектива обрести дом. Теперь же, с утратой функциональной зависимости, герой «поселяется в углу». Угол становится его полудомом.
Город-машина жёстко преследует любое уклонение от функциональной зависимости. Исполняя свою функциональную повинность, индивид – с точки зрения исполнения этой повинности – оказывается подобен, до неотличимости, другим таким же точно индивидам, исполняющим уже свои функциональные повинности. Другими словами, индивид стандартизируется, становится неотличимым от других индивидов, становится в буквальном смысле – стандартным индивидом – «органным штифтиком».
Однако, став стандартным индивидом, он нивелирует свою индивидуальность, т.е. с необходимостью делает её минимальной.
Вопрос: Утрата «человеческого»
Что происходит с индивидом, который минимизирует свою индивидуальность? Очевидно, что рассмотренный в интервале между «человеком» и «животным», он удаляется от собственно человеческого, приближаясь к собственно животному. Так и есть, минимизирование индивидуальности в человеке объективно способствует утрате в нём человеческого.
И здесь бы можно было увидеть две стадии, на которые я уже обращал внимание около 20 лет назад.[87 - См. Павленко А.Н. Бытие у своего порога. Кентавр. Зеркало // Человек, 1993, №1 . А также в виде монографии: Павленко А.Н., Бытие у своего порога, М. ИФРАН,1997г.]
СТАДИЯ ПЕРВАЯ
На этой стадии человек ещё продолжает оставаться человеком со вполне узнаваемыми очертаниями. Однако черты эти становятся анормальными, гипертрофированными.
Здесь уместно будет вспомнить живопись Брейгеля Старшего. В его картине «Лето» головы персонажей намеренно увеличены. Или, например, его же картина «Кухня жирных». На картине изображена человеческая плоть, готовая не только разорвать одежду её носителей, но и саморазорваться от непомерно чудовищного давления изнутри. Так, словно человеческое тело «изнутри» раздули до сферы, или, наоборот, человека «надели» на сферу. Зритель, смотрящий на героев Брейгеля всё ещё узнаёт в них людей, но узнаёт уже с трудом, делая «поправку» на эти увеличенные объёмы плоти.
Так чем же может оказаться полезен Брейгель Старший при рассмотрении «утраты человеческого» в героях Достоевского? Он полезен тем, что у Достоевского мы наблюдаем ту же «картину», правда, изображенную не графически, а литературно.
Увеличенное до непомерных размеров сознание героя Достоевского в «Записках из подполья», гипертрофированное до «болезни» – это ли не картина Брейгеля Старшего, написанная с натуры в Петербурге? Герой Достоевского – это и герой Брейгеля Старшего, правда, рассмотренный в другую эпоху и в других обстоятельствах.
Ведь что такое сознание, ставшее «болезнью»? С психо-физиологической точки зрения – это всё та же анормальность. Для сравнения, представим перед собой нормальное тело обычного человека, у которого и «сознание обычно». Всё в нём будет пропорционально и соразмерно. А теперь, допустим, что у другого существа – необычного – сознание непомерно увеличено. Каким аналогом в физиологическом теле мы могли бы отобразить это увеличение. Нетрудно догадаться, что мы получили бы изображение человека, у которого размер головы был бы равен размеру его туловища. А теперь давайте ясно представим себе это графически: очевидно, что перед нами получился урод[88 - Однажды мне довелось видеть в коляске маленького ребенка больного водянкой мозга, голова которого занимала половину коляски. Конечно, ребенка нам жаль – он страдает невинно. Но что делать с уже вполне взрослыми людьми, которые «формой своего существа» в точности похожи на больных «водянкой сознания», а таких, по роду моих занятий, мне приходится встречать довольно часто.]!
Возникает вопрос: видели ли мы когда-нибудь подобные тела? Если ктото осмелится сказать «нет», то он будет не прав. Такое тело можно наблюдать у годовалых индивидов, мозг, а соответственно и черепная коробка которых, непомерно увеличилась из-за отёка мозга – водянки. Это заведомо больные люди, которых, собственно, уже и нельзя называть людьми.