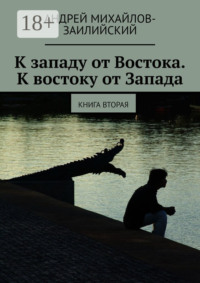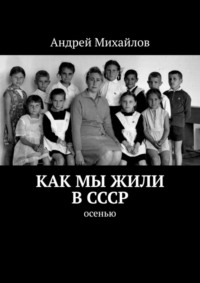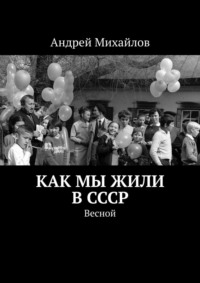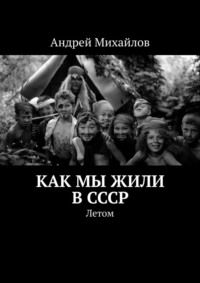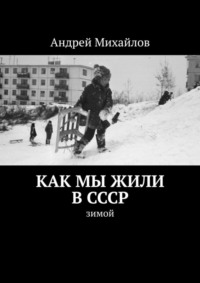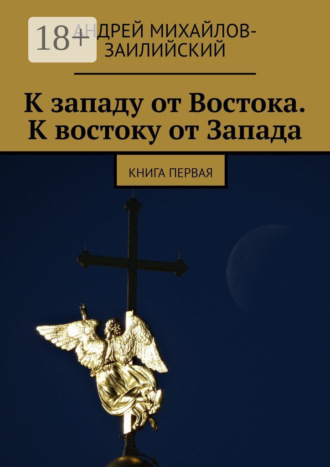
К западу от Востока. К востоку от Запада. Книга первая
Но свято место остаётся таковым независимо от того, кто и кому на нем молится. На Конь-камне стоит ныне маленькая часовня. А Коневский монастырь, заложенный на острове старцем Арсением, несмотря на свою непростую историю, дожил до наших времён. Сегодня в возрождённую обитель можно добраться на монастырском боте от Владимирской бухты за полчаса. Коневец, может быть, не столь впечатляет, как Валаамский архипелаг, на севере Ладоги (также известный своей «монашеской республикой»), но аура (ощущение «намоленности»), витающая над лесистым островом, монастырём и скитами, хорошо чувствуется людьми, даже не особо чувствительными.
Интересно, что места эти ныне в особой чести не только у последователей Христа – за ними внимательно наблюдают нервные адепты странной религии, которая всё время пытается выдать себя за науку. Я говорю о тех, кто называет себя «контактёрами», «уфологами», «аномальщиками» (другие называют их проще – «тарелочниками»). Если посмотреть на всю эту разношёрстную братию попристальнее (у меня была такая возможность, когда однажды из любопытства я забрёл на заседание Комиссии по аномальным явлениям Русского географического общества), то окажется, что это типичные неоязычники, готовые обожествлять окружающее и искать чудесные проявления во всём, что только попадается им на глаза.
Но повышенное внимание к таким «сильным» местам, как Коневец, – это проявление уже иного плана, более общее и характерное для людей. Природа способна очень сильно воздействовать на каждую свою часть, даже такую обалдевшую и обнаглевшую, как человек. Земля – ведь это не гладкий асфальт, а неровное поле из флуктуаций и аберраций. До сих пор не известная нам Суть мироздания, более нами чувствуемая, нежели осознаваемая, проявляется в разных местах по-разному. Здесь, на берегах Ладоги, она особо пронзительна.

Тропою викингов
Замшелая, дремучая, болотистая, бесконечная и таинственная, зачарованная заклятиями волхвов, населённая суровыми лесными племенами и дикими зверьми, пронизанная северными ветрами, возвеличенная древними сказаниями – такой издревле выглядела земля, которой суждено было стать колыбелью русской государственности. Восприятие истории – личное дело каждого. Кому как, а мне, когда я слышу упоминание про Древнюю Русь, всегда является в памяти печальное величие древних крепостей Озёрного края. Печеры, Изборск, Псков, Копорье, Орешек и, конечно же, Старая Ладога, которую называют ещё первой столицей Руси.
1. Старая Ладога – столица Рюрика

Волхов волхвов
Все знают, что летописная история Руси началась с варягов. Эпизод с призванием заморских правителей к неспособным объединиться славянским племенам особенно нравится недоброхотам России. А так как таковых хватало во все времена, то «варяжская проблема» из рядового в общем-то исторического факта превратилась в предмет нешуточных идеологических баталий.
Так вот, главный персонаж варяжского эпизода – Рюрик-первозванный прежде чем обосноваться в Новгороде, пару лет просидел в Ладоге. Видимо, предложение славян было для варяга всё же не совсем обычным, потому подозрительным. Так что, на всякий случай, прежде чем соваться в глубь непонятной страны (европейским умом понять её было сложно уже в те годы), князь решил выждать на границе, чтобы, если что, успеть упаковать чемоданы. А уж потом перебрался в Новгород и далее.
Вообще говоря, и Ладога и Новгород находятся на берегах одной реки (вернее, протоки) – Волхова, соединяющего озеро Ильмень с Ладожским озером. Новгород стоит при истоке Волхова из Ильменя, Ладога – недалеко от его впадения в одноименное озеро. Волхов же – важнейшая часть того знаменитого торгово-разбойничьего пути, по которому варяги шли в греки. И хотя расстояние между двумя городами было небольшим, около 200 вёрст, ладьи проходили его чуть ли не неделю, причиной были пороги – Ладожские и Пчевские, занимавшие почти десятую часть пути. Для преодоления препятствий приходилось вытаскивать ладьи на берег и тащить волоком. Либо в Ладоге перегружать товары с «морских» судов на «речные», а заодно нанимать лоцмана.
Волхов связан с волхвами. Не теми восточными мудрецами, которые поспешили засвидетельствовать почтение новорождённому Христу, а другими – знахарями и ворожеями, которые предсказали смерть одному из своих представителей – Олегу Вещему. Когда-то на берегах Волхова стояло несколько знаменитых языческих капищ: близ Новгорода – посвящённое Перуну-громовержцу, а где-то у Ладоги – во славу Велеса – «скотьего бога». И после принятия христианства украшенная многочисленными храмами и монастырями река продолжала хранить духовную силу и славу древних волхвов.
Из светских персонажей, связанных с берегами Волхова, упомяну Державина и Аракчеева, имевших тут свои имения. Кстати, благодаря усилиям последнего наряду с монастырями в мутных водах Волхова отразились и казармы «военных поселений».
N. B. Соловьёв: «Почему Рюрик избрал Ладогу»
«Почему Рюрик избрал Ладогу, а не Новгород, объяснение найти нетрудно: положение Ладоги относительно великого водного пути, относительно близости моря важнее положения Новгорода; Рюрику нужно было удержаться при непосредственном сообщении с заморьем в случае, если бы дело его пошло не так успешно в новой стране…»
Соловьёв. История России с древнейших времён. Т. 1.

«Один из лучших русских пейзажей…»
…Для большинства людей, даже знакомых с географией России, Старая Ладога представляется дремучим уголком, затерянным где-то у черта на куличках. А между тем на путь сюда от Петербурга всего и нужно полтора часа на машине.
Дорога между непрезентабельными досчатыми сёлами, грязными огородами, вечно дымящимися торфяниками была бы не очень живописной, если бы не известковый уступ, известный, как Ладожский глинт – древний берег плескавшегося тут когда-то (по-геологически, на очень давно) морского водоёма. Обнажившиеся в результате окаменелые слои ещё более древнего силурийско-девонского моря вынесли на солнечную поверхность своих заизвесткованных обитателей, царствовавших на Земле 400 миллионов лет назад. Зная места, тут за полчаса можно насобирать неплохую коллекцию окаменелых трилобитов, эндоцератов, бактритов и прочих палеонтологических персонажей.
Если подъезжать к Старой Ладоге со стороны Новой Ладоги, с севера, по левому берегу Волхова, то следует непременно остановиться у знаменитых «сопок», островерхих курганов, цепочкой раскинувшихся на самом берегу при въезде в село. Именно взобравшись по крутому травянистому склону на верх насыпи одной из языческих могил, можно испытать то, что пережило великое множество людей, наблюдавших в разное время открывающийся отсюда вид. Вид, который не оставит равнодушным даже и «негра преклонных годов», не говоря о том, в жилах кого течёт хоть какая-то часть русской крови. Именно отсюда восторгался увиденным Николай Рерих.
Если к этому прибавить, что «бугор» Рериха, который так одурительно пахнет травой под ногами, не что иное, как могила знаменитого Вещего Олега (грозного врага Царьграда и мстителя неразумным хазарам), то ощущение, которое может овладеть каждым сюда взошедшим, может сравниться с величайшим потрясением. Говорю авторитетно.
А при чём тут князь Олег?
Вернёмся к нашим варягам. У Рюрика не было взрослых детей. Ему наследовал Олег. Как ближайший родственник. Олег княжил на Руси 33 года – с 879-го по 912-й. Именно с его именем связано начало Киевского периода, активное «собирание» славянских племён и знаменитый поход на Константинополь, закончившийся договором с императорами и прибитыми на ворота византийцев щитами.
Кончина «любимца волхвов» благодаря Пушкину известна широким массам куда лучше, чем его жизнь. Фатально предопределённая «смерть от коня» затмила собой даже значение этого нетривиального князя в судьбе единой Руси. По одной из летописей, смерть произошла в Киеве, а по другой – тут, в Ладоге, на берегу Волхова. С точки зрения зоолога, оба этих места выглядят одинаково нелепо – что район Киева, что район Ладоги не могут похвалиться какими-то особо ядовитыми змеями, способными умертвить закалённого в войнах и пирах воина. С точки зрения истории… каждый может выбрать могилу Олега по собственному желанию. Лично мне больше нравится видеть её тут, на волховских берегах, в стране волхвов.
N. B. Рерих: «Чувство родной старины»

«Чувство родной старины… Взбираемся на бугор, и перед нами один из лучших русских пейзажей. Широко развернулся серо-бурый Волхов с водоворотами и светлыми хвостами течения посередине, по высоким берегам сторожами стали курганы… Далее в беспорядке – серые и желтоватые остовы посада вперемежку с белыми силуэтами церквей… Везде что-то было, каждое место полно минувшего. Вот оно историческое настроение… Именно чувство родной старины наполняет вас при взгляде на Старую Ладогу.»
Николай Рерих. «По пути из варяг в греки».
Небеса и подземелья
Первое, что бросается в глаза с сопок-курганов, – красивый пятиглавый собор с огромной луковицей купола в центре. Это старинная церковь Рождества Иоанна Предтечи, стоящая на Малышевой горке. Есть мнение, что это место использовалось в качестве сакрального ещё до появления в этих местах христианства. Позже, поверх языческого капища, как это очень часто делалось, был поставлен храм, который, неоднократно перестроенный, дошёл до наших дней. Нынешний вид церковь получила в 1695 году и была центром несохраненного монастыря. Известно, что колокола для его колокольни отливались по велению Бориса Годунова, семья которого покровительствовала обители.
Нужно сказать, что ладожские храмы и монастыри страдали в истории неоднократно. Их периодически громили шведы и прочие супостаты, коих тут, на границе, всегда было с лихвой. Досталось и в эпоху Смутного времени. Но самый непоправимый урон всему местному боголепию был, конечно, нанесён большевиками и богоборцами на рубеже 1920-1930-х годов. Церкви закрыли, колокола сорвали, маковки свалили, монастыри ликвидировали, а монахов и монахинь пустили кого по миру, а кого и в расход.
Когда эпоха безбожия сменилась временами раскаяния, жизнь стала потихоньку возвращаться в монастыри и храмы Старой Ладоги. И первой, в 1991 году, ожила Иоанновская церковь на Малышевой горке. Новый резной иконостас вновь разделил земное и небесное, а над разливистым Волховом понеслись с колокольни перезвоны новых колоколов.

Не менее интересна, чем сам храм, Малышева горка, на которой он поставлен. Вся она, словно гигантский муравейник, ископана и испещрена лабиринтами ходов и пещер. Говорят, что в лихие времена здесь, в этих подземельях, могли схорониться чуть ли не все окрестные жители. И что там, в темноте и мраке – целый город с улицами, домами и церквями.
Впрочем, встречалось и другое объяснение появлению рукотворных лабиринтов Малышевой горки. В XIX веке местные крестьяне добывали в её недрах кварцевый песок, который затем доставлялся в Санкт-Петербург на фабрику по производству электрических лампочек. Любопытный казус. Под храмом, призванным нести свет заблудшим душам, добывают песок для лампочек, освещающих улицы запоздалым прохожим. Чуть позднее это изобретение Ладыгина (первый опыт применения – иллюминация столичного магазина белья в 1875 году) стали называть «лампочками Ильича». Того самого, по инициативе которого и началось гонение на церковь в России.
Сегодня вход в загадочные подземелья замурован, но когда-то нам удавалось заглянуть внутрь. К разочарованию, далеко проникнуть не получилось, подземные ходы оказались затопленными водой. Чтобы избавить многочисленных желающих от опасного искуса, местные власти решили закрыть пещеры. От греха подальше и до лучших времён.
Вообще же подземные ходы Старой Ладоги – тема особая. Существуют неясные данные о том, что даже под дном Волхова существовал когда-то тайный проход из крепости к монастырям правого берега.
Раздвоенная твердыня
Сегодня старая крепость Ладоги, «Рюриков замок» – наполовину разрушенная, наполовину выстроенная заново – представляет собой странное зрелище. Будто здесь прошла линия какого-то пространственно-временного разлома, в результате которого половина твердыни предстаёт взору в том состоянии, в каком и дошла до нас через века, а вторая половина чудесным образом сохранилась в своём свежевыстроенном виде. Реставраторы потрудились над ней на славу! Возвратили всему первозданный вид!

Впрочем, первозданность этого вида весьма относительна, – серые стены и башни на мысу, в месте слияния с Волховом речки Ладожки – это уже крепость, явно относящаяся к временам появления артиллерии и пороха. Творение XV-ХVI веков. А вот в фундаменте её находят камни, из которых была построена её безбашенная предшественница в 1114 году, во времена князя Мстислава. На месте ещё более древнего укрепления, возведённого самим Рюриком в те два года, пока Ладога была его столицей.
После разорения шведами в 1617 году Ладожская крепость медленно приходила в состояние груды камней. Пока за дело не взялись бодрые советские реставраторы, пыла которых, однако, хватило только на воссоздание половины стен и башен. Остальное доделали уже в новое время.
Внутри крепости растёт буйная трава и несколько невысоких деревьев. Потому сразу бросается в глаза белокаменная церковь св. Георгия, сразу за воротами, она стоит на своём месте аж с середины XII века. «Белокаменность» большинства построек того времени – свидетельство развитой строительной техники, пользовавшейся исключительно отечественными стройматериалами. На самом деле мы видим лишь толстый слой штукатурки, скрывающий под собой кладку известняковых плит на известковом растворе. Плиты для строительства добывались выше по течению Волхова из того самого Глинта с отпечатанными трилобитами.
Но Ладога не ограничивалась крепостными стенами. И хотя её посады не были такими масштабными и долговечными, как новгородские или псковские, они тем не менее окружали крепость со всех сторон. И это лишь иллюзия, что от них совсем ничего не осталось. Местные почвы обладают удивительным свойством консервировать материалы не хуже, чем пески Палестины и Египта. Но если там главный консервант – сухой и жаркий воздух, то тут, напротив, влажная и холодная грязь. Известно, что в здешних болотах сохраняются и берестяные грамоты, и первобытные ладьи и даже куски ткани.

«Земляной город» Старой Ладоги сберёг до нашего времени остатки деревянных изб и домов, в которых селились здешние жители 1000 лет назад. Вообще же благодаря стараниям археологов Ладога стала рекордсменом среди древнерусских городов-долгожителей. Первые селяне обосновались тут примерно в 750-х годах. А первое упоминание города в летописи относится к 862 году.
Аргументы к забвению
Как обычно, в истории России ни один город державы не обошло личное участие вездесущего и необузданного Петра Великого. И Ладога не стала исключением, хотя царь-реформатор и не сыграл в её судьбе никакой положительной роли. Скорее, напротив.
Именно сюда, в Успенский женский монастырь, в 1718 году была сослана злосчастная русская царица Евдокия Лопухина, взамен которой Пётр посадил рядом с собой отобранную у Меньшикова пленницу Марту Скавронскую, будущую самодержицу Екатерину Первую. С неё начался двухвековой «бал иностранных цариц». А несчастная Лопухина, чей княжеский род вёл отсчёт от косожского князя Редеди, до 1725 года протомилась тут под усиленной охраной, а позже, когда «сменщица» приняла власть, вообще оказалась в Шлиссельбурге. Город, ставший первой столицей явившегося с Запада Рюрика, таким образом, стал символом той России, которую Пётр без жалости оставил в своём стремлении к Западу.
Но это не всё. В десяти верстах к северу, на самом берегу Ладожского озера, там, где когда-то не дерзнули обосноваться первые строители Ладоги, Пётр основал новый город, который назвал Новой Ладогой. Таким образом обратив город Рюрика в ветхозаветную Старую Ладогу.

…Во времена Рюрика, в эпоху славы и процветания, население Ладоги, первого русского города, составляло около 1000 человек. Сегодняшняя Старая Ладога – небольшое и заскорузлое село с 2000 жителей.
N. B. Власть денег: дирхемы в Ладоге
Любопытно, что среди находок археологов и просто счастливчиков – многочисленны клады с серебряными монетами. Ни за что не угадаете – какими. Арабскими дирхемами! С территории нынешнего Ирана, Ирака, Средней Азии. Их везли сюда через Каспий и Кавказ по водным путям Великой речной системы для… местного использования. Дело в том, что здешняя земля, богатая мехами и медами, не обладала вовсе никакими драгоценными металлами. Но власть денег познала рано. Потому-то во времена варягов торговля в Восточной Европе и далее, в Балтийском регионе, велась почти исключительно на арабские дирхемы!
2. Изборск: Стезя Трувора
Варяжская братия
Согласно летописным данным, три брата-варяга, прибывшие княжить в славянские земли, «расселись» отдельно. Старший, Рюрик, выдержав пару лет в Ладоге, переехал в Новгород. Средний – Синеус, отправился в далёкое Белоозеро, где обитали и не славяне даже, а финоязычные веси. Младшенькому, Трувору, достался кривичский город Изборск.
Как и всё малопонятное, история трёх братьев окружена плотной завесой догадок и легенд. Многие учёные думают, что вообще-то случилась путаница при переводе, и изначально речь шла о призвании одного-единого Рюрика. Действительно, нужно ли было огород городить, проявлять стремление к стабильности и тягу к государственности, сажая на свою голову сразу трёх соправителей?
Хотя, может быть, всё не так просто. Меня, например, настораживают два первых года варяжского княжения. Те, что Рюрик просидел в Ладоге. Синеус – в Белоозере. А Трувор – в Изборске. Так вот, через два года два брата почти одновременно скончались, а третий переселился в региональную столицу – Новгород. Словно выдержав некий отборочный конкурс.
О Рюрике мы поговорили, Синеуса придётся пропустить вообще (о нём почти ничего не известно, да и археологи не могут найти в Белоозере слоёв, приличных варяжскому времени), а вот Трувор и его вотчина заслуживают особого интереса и разговора.
Крест язычника
…Каждый год 9 мая кладбища Псковщины заполняются людьми. В этом обильном нашествиями и сражениями крае свежие могилы никогда не зарастали травой. Но жатва последней мировой войны была особо обильной, и даже на фоне всех предшествующих. Потому так людно в дни памяти на местных погостах и кладбищах, ощетинившихся жёсткими цветами крестов и звёзд. В светлой сени радостных весенних рощиц, радующих глаз дымкой свежей зелени, будоражащих обоняние запахом цветущей сирени и черёмухи, ласкающих слух пением скворцов и дроздов, бродят тихие и морщинистые старушки. Они – родные сестры Времени, вечные вдовы России – в такие дни главные персоны на многочисленных местных могилах.

Не составляет исключения и старый погост Старого Изборска, небольшого (по количеству жителей) и великого (по своей истории) села, в 30 километрах от Пскова. Светло-тенистый элизиум с буйноцветущей сиренью, неугомонными птицами, тихими старушками и лабиринтом железных оград – такой же, как тысячи и тысячи других. Такой – да не такой. Это понимаешь сразу, как только натыкаешься на Крест. Крест, вырезанный из цельного куска серого камня, похожий на раскинувшего руки странника в выцветших одеждах, такой огромный, что, стоя рядом, приходится подымать голову. Надгробные памятники современных могил, со всех сторон обступающие Крест, выглядят в его суровом соседстве даже как-то весело и легкомысленно. И не мудрено. Ведь это – Труворов крест. Поставленный на Труворовой могиле. Рядом с Труворовым городищем.

И хотя понимаешь, что Крест вряд ли имеет прямое отношение к язычнику-варягу, и знаешь, что возраст памятника не более каких-то пяти столетий, а всё равно заворожённо обмираешь пред его разверзнутыми каменными объятиями и стоишь дураком, словно у раскрытого фолианта на утраченном языке.
Городище
Труворова могила – у входа в Труворов город. И современное кладбище вовсе не заканчивается тут, как сначала кажется, а начинается отсюда. Несколько древнейших могил, рядом с той, что увенчана Крестом, вросшие в землю каменные плиты с непонятными знаками, это, по поверию, погребения тех дружинников-варягов, что явились вместе с Трувором. Они и ныне, словно чародейная стража некоей заклятой страны, что начинается сразу, как только тропа минует охраняемые ими невидимые врата.
Когда-то тут действительно были ворота древнего города Изборска. Того, что, по мнению Летописца, существовал ещё прежде самого Пскова. Сейчас от тех укреплений, в которые вели ворота, остался лишь оплывший вал и неглубокая балка, в которой с трудом можно угадать остатки рва.
Всё невеликое пространство Труворова города, ныне густо замуравленное пахучими травами и малоотделимо взглядом от окружающего пейзажа. Стоящая посередине этого сугубого археологического комплекса одинокая белостенная Никольская церковь, похожая издали на огромную русскую печь, оставшуюся от разрушенного дома, лишь усугубляет грустное ощущение невосполнимости утраты. Церковь выглядит очень древней, хотя ей от роду всего-то два-три столетия, и появилась она тут гораздо позже, чем закончилась жизнь того Изборска.
Единственное, что вызывает недоумение у каждого входящего в невидимые ворота невидимого города, это его непонятное положение. Для чего было городить город (да ещё спешить сделать это раньше Пскова) на таком плоском, незащищённом и невразумительном месте? Впрочем, всё становится понятным, стоит лишь пройти мимо белых стен собора. Кажется, что почва у тебя под ногами расползается сказочной страной, потерянной в огромной расщелине Земли. Становится понятным – что охраняет Труворов крест.
Затерянный мир Изборской долины
Чувство, какое испытываешь каждый раз, выходя на край Изборской котловины, для меня всегда оборачивается сильным потрясением. Я бывал тут не только весной, когда все цветёт, поёт и дерзит, но и осенью, во время увядания, умирания и тишины. Глубинное воздействие этого места столь велико, что даже воспоминания о нём способны довести до лёгкой дрожи.

Изборская котловина – воплощённая сказка. Сказка про Русь. Про ту, которой, может быть, никогда и не существовало за пределами воображения. Там на дне есть всё, что включает в себя сказочный образ страны, и всё – в миниатюре, а оттого такое уменьшенно-ласковое – лесочки, речушки, деревеньки, церквушки, деляночки, озерки и т. п. Трудно представить, чтобы в этом зачарованном мирке не осталось каких-нибудь «невиданных зверей», волков-оборотней, запертых кощеями «красных дев», избушки Бабы Яги, богатырей, чешущих затылки перед камнями на распутьях и прочих персонажей, знакомых с детства по любимым сказкам.
Впрочем, я несколько удалился от нашей тропы охваченный собственными эмоциями (да простится мне сия слабость), но и она ведёт нас именно туда, на дно Изборской котловины, к сияющей ряби крохотного Городищенского озера, с замершей лодкой рыбака на середине. Именно сюда в стародавние варяжские времена и прибыли однажды хищноносые ладьи дружного Труворова воинства.