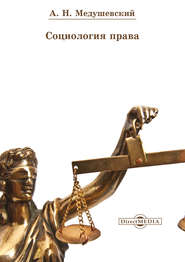По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Политические сочинения
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Острый конфликт традиционалистских представлений о справедливости (равенстве) и новых правовых норм о частной собственности на землю (как путь к коммерческому перераспределению земли и возникновению неравенства) сопутствовал разработке основных юридических документов. Длительная постсоветская дискуссия по проблеме завершилась правовым закреплением частной собственности на землю в Конституции 1993 г. и навязанным государственной властью вопреки позиции консерваторов принятием Земельного кодекса 2001 г.
Следует подчеркнуть, однако, что на момент принятия Кодекса подавляющая часть сельского населения выступала против частной собственности на землю. В последующий период сохраняется ситуация «правовой неопределенности», которая включает, с одной стороны, фундаментальные изменения (главным из которых следует признать сам факт начала коммерческого использования земли), с другой – эти изменения носят во многом спонтанный характер и лишь в ограниченной степени регулируются правовым путем[79 - Medushevsky A. Power and Property in Russia: The Adoption of the Land Code // East European Constitutional Review, 2002. Volume II. Number 3 (summer).
The Transformation and Consolidation of Market Legislation in the Context of Constitutional Development and Judicial Reform in Russia. Moscow, 2004.]. Отсутствие правовых рычагов влияния на ситуацию заставляет обращаться в регионах к патерналистским квазиправовым способам ее регулирования с целью предотвращения роста социального напряжения.
Солидарность и господство: национальная идентичность и государственное устройство
Солидарность как понятие, выражающее степень социальной интеграции, сплоченности и когнитивного консенсуса в переходном обществе, способно выступать в органической и механической форме. Солидарность связана с понятием господства – осуществлением власти в институциональных формах, имеющих легитимное или нелегитимное выражение. Поиск их соотношения для достижения общественного единства представлен в направлениях конструирования постсоветской национальной идентичности. Концепция нации и «национального интереса» очень противоречива и включает различные дефиниции – гражданская нация, этническая нация, комбинация обоих, или некоторая сверхнациональная идентичность; нация как предпосылка государства (или империи), соперник незавершенного государства или его воплощение; нация как реальный исторический феномен или социологическая фикция. Такие темы, как «несформировавшаяся нация», «государствообразующая нация», «национальные приоритеты» являются предметом споров о российской идентичности[80 - Национализм в истории. М., 2008.]. В соответствии с этим представлены различные концепции господства и критериев легитимности основанных на нем политических институтов постсоветского периода.
Либеральным теориям «нового мышления», «общечеловеческих ценностей», «прав человека» и «правового государства», господствовавшим в 1990-х гг., брошен мощный вызов со стороны консервативной политической теологии и романтики[81 - Power and Legitimacy – Challenges from Russia. Ed. by Per-Arne Bodin, Stefan Hedlund and Elena Namli. London and New York, 2012; Медушевский А.Н. К критике консервативной политической романтики в постсоветской России // Российская история, 2012. № 1. С. 3–16.]. Консервативная политическая романтика провозглашает, что аутентичная русская цивилизация основана на преобладании национального государства и харизматического лидерства какого-либо типа (религиозной или светской идеологии). Естественной формой этой государственности должна быть Империя – сверхнациональная форма правящего класса и правительства (также в искусственно восстановленных архаичных формах). Преобладающая роль русской нации как «государствообразующей» нации должна быть обеспечена в этой Империи фиксированными правовыми нормами, включенными в конституцию или конституционные законы. Рациональным конструкциям государства противостоят крайне консервативные доктрины, опирающиеся на идею восстановления так называемой «Русской системы». «Русская система», – полагают они, – есть особая политическая форма соединения принципов солидарности и господства. Она сформировалась в результате уникального синтеза западных (Византия) и Восточных (Монгольское иго) форм, но не идентична им. Наиболее характерными чертами системы, в противоположность западным формам, являются: концентрация собственности и власти в одном центре – правящей элите, закрепощение всех сословий, абсолютный деспотический контроль государственной власти над обществом, который не может быть ограничен представительными институтами и позитивным правом[82 - Феномен русской власти. Материалы научного семинара. М., 2008, № 3 (12).]. Солидарность в этой интерпретации обусловлена исторически сформировавшимися отношениями общества и государства, а следовательно – тождественна традиционным формам господства[83 - Идеология и философия солидаризма. Материалы научного семинара. М., 2010. Вып. № 9.]. В противоположность западному опыту, этот тип власти базируется не на равновесии конфликтных социальных интересов, но на интересах самой власти, которая в силу этого не может быть трансформируема в нормальное правовое государство. Государство не было создано правом – как раз напротив, право есть порождение государства, которое получает возможность контролировать общество через религиозные и моральные обязательства и «диктатуру закона». Авторитаризм представляется как единственная возможность обеспечить солидарность общества и остановить разрушение «национальной идентичности». Конституционализм как таковой осуждается многими консервативными романтиками как искусственный продукт некритической европеизации 1990-х гг.
Решение проблемы национальной идентичности определяет обоснование формы государственного устройства, сочетающей единство государства с выражением исторической специфики регионов. Полярные концепции государственного устройства, представленные в постсоветский период, включают позиции сторонников восстановления унитарного государства – «единой и неделимой России» (так называемой «губернализации», т. е. структуры управления, существовавшей в Российской империи), федерализма и модели, близкой к конфедерации (сторонники которой активно выступали в период так называемого «парада суверенитетов» 1990-х гг.). Эти споры включают различные оценки той модели федерализма, которая была закреплена в Конституции 1993 г. как договорной или конституционной, децентрализованной или централизованной, принципиально различные воззрения на эволюцию этой конструкции и прерогативы центральной власти. Различие позиций в отношении действующей модели федерализма (национально-государственного самоопределения республик в рамках Конституции 1993 г. и Федеративного договора 1992 г.) представлено тремя позициями: эта модель федерализма должна быть отменена (поскольку исторически страна никогда не знала федерализма); она должна быть сохранена именно в своей конституционно-закрепленной форме как гарантия прав национальных республик; наконец, федерализм должен быть сохранен как важный элемент сдержек и противовесов, однако действующая его модель (выступающая наследием искусственного и нежизнеспособного советского национально-административного конструирования) должна быть пересмотрена исходя из представлений о гражданской нации. Первый подход выражает идеологию консервативных державников; второй – сторонников прежней советской легитимности (рассматривавшей федерализм как инструмент решения национального вопроса), третий – либеральных прагматиков[84 - Административно-территориальное устройство России. История и современность. М., 2003.]. Поиск новой концепции национальной идентичности (как «гражданской нации» в противоположность «этнической нации») сделал актуальным отказ от советской концепции федерализма и форм ее правового выражения. Это означало разработку концепции федерализма (или первоначально широкой культурно-национальной автономии), принципиально отличную от советской: во-первых, субъекты федерации не привязывались к нациям, а тем более этносам; во-вторых, исключалось право сецессии (юридически неуместное для федеративного государства); в-третьих, приоритет отдавался защите гражданских индивидуальных прав, а не национальных групп или меньшинств. Современные дебаты о модернизации российского федерализма включают именно эти темы: определение конституционной модели федерализма; преодоление асимметричности существующей модели; изменение соотношения национальных и социально-экономических границ субъектов и правовые возможности их пересмотра; бюджетный федерализм, федеральная интервенция, выборность губернаторов и создание эффективных институтов административного и судебного контроля над ними.
Различие подходов к федерализму обусловливает вариативность стратегий решения другой важной проблемы – формирования адекватной структуры законодательной власти: должен парламент состоять из одной или двух палат; фиксировать верхнюю палату в качестве административного института (как Государственный совет Российской империи); как представительство национальных субъектов федерации (и защиту их прав); представлять территориальные общности, независимо от проживающих на них наций. Этим позициям в определенной мере соответствуют выдвигаемые концепции бикамерализма – должен он быть сильным (когда две палаты по существу равны по своей роли в законодательном процессе, причем верхняя может блокировать решения нижней), слабым (когда эта симметрия и конгруэнтность палат отсутствует) или представлять собой некоторый промежуточный вариант (когда существует формально слабая модель бикамерализма, но верхняя палата обладает способностью блокировать часть законодательных актов, связанных с федерализмом). Исходя из этого представлены различные видения порядка формирования Совета Федерации, его реальной роли в решении конституционных и политических конфликтов (огромные конституционные полномочия верхней палаты по ст. 102 оказываются невостребованными ею); наконец, его функционирования как политического института. Здесь представлены как минимум пять основных моделей – корпоративистская, представительства от регионов, законодательного фильтра, беспристрастного арбитра, наконец, буфера в отношении регионов[85 - Совет Федерации. Эволюция статуса и функций. М.,2003.]. Этот перечень будет, однако, неполон без указания на такую крайнюю позицию, как предложение об отмене верхней палаты вообще или замене ее Государственным советом, перспективы и порядок формирования которого остаются предметом обсуждения. Троекратный порядок изменения процедуры формирования Совета Федерации (и параллельное воссоздание Государственного совета) в этом контексте – есть поиск оптимальной модели бикамерализма в постсоветской России. Этот поиск, как показывают текущие инициативы по реформированию верхней палаты, в том числе выдвинутые с принятием новейших поправок к Конституции 1993 г. – далек от завершающей стадии. Он отражает незавершенность российского федерализма, чрезвычайно различные видения его перспектив и возможностей политической организации в рамках верхней палаты – от стремления к полноценному федерализму до его превращения в номинальный. Существенное значение имеет конструирование внутреннего пространства – в решениях конституционных судов о границах централизации и децентрализации и ее типах (например, договорная или конституционная модели федерализма), определении того, в какой мере эти границы должны остаться неизменными, как должны решаться вопросы перераспределения полномочий центральных и региональных органов власти и формироваться сами эти органы (в частности, вопросы формирования губернаторского корпуса и местного самоуправления) – все это вопросы, принципиальные для вектора конституционно-правового развития.
Поиск согласования принципов солидарности и господства в рамках новой национальной идентичности получил концентрированное выражение в текущих спорах о доктрине суверенитета[86 - Идея суверенитета в российском, советском и постсоветском контексте. Материалы научного семинара. М., 2008. Вып. № 4 (13).]. В современных дебатах актуализируются такие его интерпретации как «национальный суверенитет», «народный суверенитет» и «государственный суверенитет» с различными выводами в отношении международного и внутреннего права, федерализма и централизации политической власти – необходимости выстраивания ее «вертикали» или, напротив, расширения социального контроля над ней. Внутренне противоречивая концепция «суверенной демократии», выдвинутая в качестве квазиофициального ответа на вызов «цветных революций», оказалась неприемлемой для крайних течений – консерваторов (отстаивавших суверенитет без демократии) и либералов (требовавших «демократию без прилагательных»). Но она не стала полноценным ориентиром и для прагматиков, поскольку не выдвигала четкого вектора преобразования государственности по мере завершения задач переходного периода.
Право и сила: форма правления и тип политического режима
Важным аспектом дискуссии о справедливости является тема соотношения права и силы. Существо конституционного кризиса предстает как противопоставление права (выражения нравственного идеала справедливости) и силы (не опирающейся на справедливость как нравственную основу). Между ними возможны три различных комбинации: перерождения права в силу (в результате чего право становится бессильным и происходит утверждение авторитаризма); столкновение одной силы с другой, когда каждая претендует на то, что является правом (на деле не являясь им в момент столкновения); и, наконец, превращение силы в право (когда происходит легитимация существующего порядка вещей). В постсоветский период первая комбинация ассоциировалась с коммунистическим режимом, вторая – с переходным периодом, третья – с перспективными задачами его трансформации в правовое государство. Выражением конфликта права и силы стало разграничение понятий социальной и конституционной революций – ключевой элемент стратегии правовых реформ. Либеральная программа исключала социальную революцию, предполагая, что социальные преобразования должны осуществляться правовыми методами. Однако, при решении конституционного вопроса в постсоветский период присутствовали различные стратегии – конституционной реформы и конституционной революции. Понятие конституционной революции принципиально отличалось от понятия социальной революции тем, что затрагивало исключительно сферу правового регулирования (такие изменения конституции, которые делаются с вынужденным нарушением положений предшествующего основного законодательства).
Обосновывая новую программу политического переустройства, сторонники демократических преобразований в принципе отстаивали реформационную стратегию против революционной, но допускали последнюю как вынужденную меру (не социальная, а именно конституционная революция).
Современные российские споры о правовом государстве в принципе соответствуют тем направлениям, которые представлены в классической юриспруденции. Они отражают, во-первых, различие философских концепций права и нравственности, соответственно усматривая в правовом государстве этический идеал, нормы позитивного права, отражающие социально-психологические или поведенческие стереотипы общества или, скорее, эффективную социологическую конструкцию, представляющую реализованный выбор данной эпохи. Во-вторых, масштаб понятия отражает столкновение идеологических установок общественных движений – либералов-западников, консерваторов-почвенников и прагматиков-реалистов, заимствуя у них основные аргументы (принятие западной модели правового государства, отказ от нее во имя сохранения «самобытности» или создание гибридных модификаций). Исходя из этого типология форм правового государства делает акцент на различные содержательные компоненты: различает либеральное правовое государство (провозглашение верховенства законов, принципа разделения властей и индивидуальных свобод); демократическое правовое государство (дополняющее концепцию широким правом политического участия) и социальное правовое государство (включающее принципы социальных гарантий и их реализации); или, наконец, привносит в данное понятие элементы социальной демократии, национализма или экологических доктрин, порожденных современными конституционными спорами (в том числе связанные с биологическими, экологическими и информационными правами третьего и четвертого поколений). В-третьих, проблемой является вопрос о форме правления и характере политического режима – должен он быть демократическим или авторитарным.
Как в начале ХХ в. (в ходе Первой русской революции), так и в его конце реализовалась модель конституционного устройства, вводящего слабый парламент и сильную власть главы государства. В постсоветский период Конституция 1993 г. ввела смешанный политический режим французского образца (в его голлистской интерпретации периода установления Пятой республики 1958 г.), который, однако, получил трактовку, позволяющую ему функционировать как президентский или даже сверхпрезидентский режим. Режим, созданный в результате конституционной революции 1993 г., во многом напоминал систему, сложившуюся в России после революции 1905–1907 гг., а Конституция 1993 г. оказалась схожей с «Основными законами Российской империи» в редакции 1906 г. в том, что касается статуса парламента и прерогатив главы государства. Данная система, определявшаяся как «мнимый конституционализм» не была, однако, тоталитарной: в обоих случаях означала несомненный шаг вперед в принятии принципов правового государства и разделения властей (однозначно отвергавшихся как абсолютистской, так и советской юридической доктриной и конституционной практикой)[87 - Medushevsky A.N. Russian Constitutionalism. Historical and contemporary development. London, Routledge, 2006.]. Современная Конституция России оказалась, следовательно, внутренне противоречива: реализуя в полном объеме либеральную концепцию прав личности и юридически фиксируя (впервые в российской истории) принцип разделения властей, она, в то же время, закрепляла достаточно авторитарную модель президентской власти, превращающую ее в движущую силу, решающий (если не единственный) инструмент политического процесса[88 - 15 лет Российской Конституции // Отечественная история, 2008, № 6.]. В результате возникла конструкция власти, которая формально интерпретируется как смешанная форма правления и совмещает ряд элементов классических форм правления (смешанной, президентской и сверхпрезидентской), но на деле представляет собой оригинальный вариант, прямых аналогов которому нет за пределами постсоветского пространства.
Это открывает возможности диаметрально противоположных интерпретаций действующей конституции – с позиций силы или права. Первый подход, реализованный в консервативных проектах политических реформ (крайне правой и левой направленности), представлен идеей «согласования конституции с реальностью» – отказа от правового государства как искусственного продукта европеизации 1990-х гг. Центральная часть консервативной программы и конституционных поправок направлена на пересмотр политической структуры государства в отношении таких принципов, как конституционализм, федерализм, парламентская демократия. Предлагаемая конституционная трансформация включает такие принципиальные изменения, как отмена ценностно-беспристрастного характера позитивного права, светского характера государства и образования, пересмотр и ограничение прав человека и либеральных свобод. Имела место длительная дискуссия о конституционной инкорпорации норм о государственной идеологии или принципов национальной доктрины. Согласно этим руководящим принципам были предложены правовые изменения в конституционное, международное, гражданское, уголовное, семейное, административное право, равно как и в законодательство, регулирующее средства массовой информации и пользование Интернетом[89 - Новые технологии борьбы с российской государственностью. М., 2009.].
Повестка консервативных политических реформ концентрируется на таких аспектах, как легитимность политического режима (которая ставится под радикальное сомнение), конституционные изменения (вплоть до отказа от действующей Конституции), структура власти (которая должна вернуться к историческим прототипам). Неприязнь массового сознания к партиям и политикам, неизбежно трансформирующаяся в неприятие парламентаризма, традиционно используется консерваторами для его критики. Консервативные критики поддержали стратегию ограничения парламентаризма и федерализма, правительственные решения по регулированию партий и неправительственных организаций, расширению сроков и прерогатив президентской власти, вообще меры против «агрессивного навязывания западной либеральной политической культуры» в других частях мира. Однако они оценивают их как непоследовательные и недостаточные, требуя радикализации консервативного курса. С этих позиций право (конструкция разделения властей) в случае необходимости должно быть пересмотрено с позиций силы – политического господства (которое не опирается на право, но само создает его), а предлагаемый способ пересмотра усматривается крайними националистами не в конституционных реформах, но в «консервативной революции». В конечном счете, под вопрос ставится сама идея правового государства, которое предлагается интерпретировать как диктатуру закона (понятие, не исключающее полицейское государство) или просто возврат к одной из традиционных форм авторитаризма.
Напротив, идея приоритета права над силой, господствовавшая в период принятия действующей Конституции, несмотря на революционный характер ее введения, требует восстановления полноценного парламентско-президентского режима и вполне соответствует логике проектов российского либерализма, позволяя осуществить в перспективе его лозунг об ответственном правительстве. С этих позиций актуален прагматический анализ дуалистических систем в истории, причин их неустойчивости; переворотов в них, а также других особенностей российских переходных режимов – прерогатив главы государства, соотношения указа и закона, института исключительного положения, указного права президента и контроля за его применением, метаконституционных полномочий главы государства и границ делегированных полномочий администрации.
Постсоветский конституционный цикл: легитимность и законность политической трансформации
Концепция переходного периода от авторитаризма к демократии сохраняет актуальность по следующим параметрам: соотношение понятий конституционной революции и конституционной реформы; моделей конституирующей (учредительной) и конституционной власти; преемственности и разрыва права, в частности, выработки правовых гарантий договорных отношений между политическими партиями, социально-психологической реакции на быстрые политические изменения переходного периода.
Динамическая концепция этих изменений, включающих конфликт правосознания и права, возможна с позиций теории цикличности. В этом контексте показательно выдвижение идеи Реставрации как возвращения к историческим и традиционным (а следовательно, более «справедливым») основам российской государственности. Консервативные романтики в постсоветской России, как и их предшественники, выступавшие после всех радикальных социальных переворотов в истории, считают реставрационный поворот необходимым по таким параметрам, как восстановление «нравственных основ» политической системы, исторической конструкции власти, легитимация ее на основе традиционалистских ценностей, пересмотр конституции в консервативном ключе. Так, для того, чтобы восстановить «симфонию» в отношениях между обществом и государством рекомендуется воспроизвести исторические институты, более соответствующие массовому сознанию в форме «Земского собора» или системы Советов как суррогатных форм социального представительства. Идея созыва Конституционного или Учредительного собрания с целью принять новую конституцию стала популярна в этих кругах. РПЦ играет важную роль в этих дебатах, доказывая преобладающий характер коллективного духа справедливости над индивидуальными правами человека и необходимость включить индивида в традиционную, основанную на религии, систему ценностей. Некоторые авторы идут так далеко, что выдвигают аргументы в пользу восстановления сословной системы, аристократии и даже монархии.
Далее, легитимность конструируемого режима, согласно консервативному подходу, должна основываться не на демократическом выборе, но на идее лояльности подданных суверену – государственной власти. В России идея лояльного поведения, подчинения верховной власти становится главной идей правых идеологических доктрин, таких документов, как, например, «Проект Россия», «Русская доктрина», «Манифест просвещенного консерватизма» и т. д. – эклектическом смешении старого консерватизма, социализма, национализма, славянофильских и евразийских учений. Наконец, пересмотр Конституции должен отражать эти ценности. Результатом этой программы конституционной трансформации становится возрождение социального утопизма – идеи переструктурирования мировой и внутренней политической повестки в понятиях консервативных ценностей, национальных интересов и авторитаризма, экспорта консервативной мессианской культуры в другие страны мира с целью остановить «гуманитарный империализм Запада» и подрывную активность скрытого «мирового правительства». Высшие принципы российской государственности, – полагают консервативные идеологи, – должны быть сформулированы и официально декларированы в качестве «Национальной доктрины». Все эти идеи поражают сходством с консервативными доктринами Германии периода Веймарской республики[90 - Идеология «особого пути» в России и Германии: истоки, содержание, последствия. М., 2010.].
Консервативная критика нравственных основ политической системы ведет к предложениям радикальной трансформации действующего права. Среди важных предложенных нововведений были жесткие антикоррупционные меры, восстановление применения смертной казни, ограничение роли международного гуманитарного права и Европейского суда по правам человека в национальных делах, усиление служб государственной безопасности в плане расширения их прерогатив, даже новое законодательство о туризме, направленное на снижение популярности заграничного туризма. Все подобные инициативы различных консервативных аналитических центров были представлены в выдвинутых проектах доктрин государственного суверенитета, государственной безопасности и информационной безопасности. Окказионализм – «магическая рука случая» и вера в провиденциального политического лидера выступает как другая сторона антипарламентских и антипартийных романтических настроений. Язык таких документов сходен с лексикой консервативных романтиков эпохи Бисмарка или Наполеона III, и воспроизводит многие идеологические штампы Веймарской Германии, Италии, Испании или Франции при Муссолини, Франко, Салазаре и Петене, но не заимствован из учебников современных историков или политологов[91 - Старо-новые российские мифы: кризис знания или сознания? Материалы российско-немецкого форума. М., 2009.].
Реставрационные идеи вполне соответствуют вектору реальной трансформации конституционного строя. Как в старой, так и в современной литературе критики обращают внимание на феномен параллельной конституции – изменения и преобразования конституции путем ее толкования и интерпретации. Дискуссия о том, являлась ли историческая модель ограничения власти в России начала ХХ в. полноценной конституцией или представляла собой скорее феномен мнимого конституционализма не привела к однозначному решению. Его не существует и в отношении современного конституционного строя, который определяется как направляемая демократия, параконституционализм, авторитаризм и даже латентная монархия. Поправки, принятые к Конституции 1993 г. в 2008 г., очевидно, не только не останавливают, но еще более укрепляют данный вектор развития конституционализма, вплотную подводя к реализации модели имперской президентской власти.
Конфликт права и справедливости, сформировавшийся в условиях конституционного кризиса периода Перестройки и, особенно, 1991–1993 гг., стал основой циклической динамики постсоветского конституционализма. Обозначив разрыв легитимности и законности, он заложил основу дебатов по всем ключевым вопросам – соотношения конституирующей и конституционной власти (необходимость созыва Конституанты или решение вопроса путем внесения поправок в действующую конституцию), возможности конституционной революции («консервативная революция» в противовес «цветным революциям») и конституционной реформы (стратегия последней интерпретируется в пользу консервативного поворота), учет срывов на этом пути (феномен переворотов в праве, конституционного параллелизма и мнимого конституционализма); разработка проведения административных и судебных реформ в обществе переходного типа; заимствования иностранных моделей и их эффективного функционирования в других социальных условиях; стратегии и тактики конституционных преобразований[92 - Конституционные проекты в России XVIII–XX вв. М., 2010.]. Предметом дебатов оказались вопросы политических прав и свободных выборов, отношения интеллигенции к власти (сотрудничества с правительством и лояльности ему или отказ в них), легитимности действующей власти с позиций традиционализма или модернизации[93 - Политические права и свободные выборы. М., 2005.]. Реакцией общества на трудности завершающей стадии постсоветского цикла стало появление концепции постсоветской Реставрации, оспаривающей одновременно справедливость и законность современного политического порядка и выдвинувшей жесткую и опасную альтернативу либеральной модели конституционализма.
Эффективность права: проблемы судебной интерпретации конституционализма
Право, как констатировалось ранее, включает такие составляющие, как ценность, норму и факт. Ценностный аспект права трудно, однако, отделить от его фактической реализации. Но именно эффективность права ставится под сомнение в обществах постсоветского типа по таким критериям, как направления судебного толкования права, применяемые доктрины и окончательность судебных решений, их беспристрастность и легитимность.
Во-первых, существенное значение имеет соотношение нейтрализма и активизма в судебном толковании Конституции[94 - Конституционное правосудие в посткоммунистических странах. М., 1999.]. Применительно к постсоветскому пространству судебный активизм был доминирующей философией Конституционных судов с 1990-х гг., когда решался вопрос о выборе политической системы и определении критериев ее оценки с позиций преодоления авторитарного правления[95 - Конституция Российской Федерации в решениях Конституционного Суда РФ. М., 2005.]. Он способствовал укреплению последовательного процесса конституционных реформ во время переходного периода и сохранению сдержек и противовесов конституционного правления[96 - Конституционные права в России: дела и решения. М., 2002.]. В период укрепления новой политической системы в деятельности суда начинает преобладать нейтральная позиция в осуществлении контроля конституционности. Наконец, последующий консервативный поворот в развитии конституционализма, связанный со стремлением обеспечить «стабильность» и «управляемость» ситуацией и укреплением для этого исполнительной вертикали власти перед угрозой внешних и внутренних вызовов, – поставил на повестку дня вопрос о пересмотре принципов и технологий судебного толкования с позиций «активизма наоборот» – самоустранения от решения наиболее острых вопросов[97 - Конституционный суд как гарант разделения властей. М., 2004.]. Так Конституционный суд РФ отказался рассмотреть вопрос о конституционности поправок 2008 г., хотя по закону о нем имеет право рассматривать все законы на предмет их конституционности. Аргументация суда состояла в следующем: КС не рассматривает законопроекты, пока они еще не стали законом, но не может рассматривать закон о поправках, поскольку они уже стали частью Конституции, а Суд не вправе рассматривать конституционность положений Конституции. Это означает, однако, что в случае «неконституционных конституционных поправок» (используя знаменитую немецкую формулу) – они не могут быть оспорены в суде. Оппозиция интерпретировала данные поправки (и прежде всего увеличение президентского мандата до 6 лет) именно таким образом, а в отказе суда рассмотреть их увидела проявление консервативной политической позиции.
Во-вторых, имеют значение используемые доктрины – про-конституционного, исторического, телеологического толкования или их соотношение, доктрина «живого права» или «невидимой конституции», так называемой «первичной законности», доктрина «необходимости» или даже «революционной законности», а также свобода суда в смене этих доктрин. Сюда следует отнести явное или скрытое обращение к доктринам, позволяющим Суду уклониться от принятия решений о конституционности (как доктрина «политических вопросов» или «усмотрения законодателя»). Особое значение для постсоветской практики имеет доктрина, регулирующая образование правовых позиций судов, степень их прецедентного или преюдициального характера, возможности их ретроактивного использования или отмены (например, в силу изменившихся социально-правовых обстоятельств). Ключевой пример – известное «губернаторское дело» – признание судом в 2005 г. конституционности новой редакции Закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ» 2004 г. Согласно этому акту вводился новый порядок избрания глав администрации субъектов Федерации: вместо прямых выборов населением губернатор стал избираться по представлению президента законодательным собранием региона, причем глава государства получил право отстранять губернатора от должности по целому ряду причин, а также распускать законодательное собрание в том случае, если оно дважды отклонило предложенную кандидатуру. Принятие данных положений, по мнению критиков, существенно ограничивало конституционные нормы о федерализме. В данном деле КС РФ, пересмотрев свою позицию в решении об устройстве органов власти Алтайского края 1996 г. (когда судьи уверенно поддержали прямой порядок избрания глав субъектов Федерации), выдвинул следующие аргументы: «правовые позиции, сформулированные Конституционным судом РФ, могут уточняться либо изменяться, с тем, чтобы адекватно выявить смысл тех или иных конституционных норм, их букву и дух, с учетом конкретных социально-правовых условий их реализации, в том числе с учетом изменений в системе правового регулирования». Возможно ли интерпретировать это положение как создание новой доктрины проконституционного толкования с позиций изменившейся реальности? И насколько широко (в плане судейского активизма) данная доктрина может быть использована в последующей практике?
В-третьих, вопросы финализма (окончательности) решений, или, напротив, возможность пересмотра судом своих собственных позиций; также общая направленность этих решений – на чью сторону в конечном счете становится суд – законодательной или исполнительной власти; государства или личности. В тех случаях, когда соответствующее судебное решение или его интерпретация не получает полноценного доктринального объяснения, возникают сомнения в их легитимности. Примером может служить дискуссия о соотношении международного и национального права в контексте отношения к решениям Европейского суда[98 - Россия и Совет Европы: перспективы взаимодействия. М., 2001; Стандарты Совета Европы в области прав человека применительно к положениям Конституции РФ. М., 2002.]. Так, решение ЕСПЧ по иску партии «Яблоко» об отмене результатов думских выборов 2003 г., имеющее по мнению его критиков политизированный характер (и даже таящее угрозу «цветной революции»), вызвало дебаты о «пределах уступчивости» со стороны российской судебной системы и целесообразности пересмотра ранее не подвергавшегося сомнению постулата абсолютности приоритета гуманитарного международного права над национальным – рассмотрения международного договора страны как части ее правовой системы, стоящего, однако, не выше Конституции. Этот подход воспринимается аналитиками как смена доктринальных установок КС РФ, способная существенно трансформировать отношение российской судебной системы к прецедентам европейского права.
В-четвертых, существует проблема политизации интерпретации фундаментальных конституционных прав в контексте изменяющейся социальной реальности. Так Конституционный суд РФ признал конституционность поправок в УПК 2008 г., которыми преступления, связанные с терроризмом, изымались из компетенции суда присяжных. Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам противодействия терроризму» действительно вывел из компетенции присяжных дела, касающиеся таких преступлений, как террористический акт, захват заложника, организация и участие в незаконном вооруженном формировании, массовые беспорядки, государственная измена, шпионаж, насильственный захват или удержание власти, вооруженный мятеж и диверсия. С решением суда не согласился ряд судей, говоривших о «деконституционализации» прав граждан на судебную защиту и адвокатов, заявивших о нарушении конституционного запрета на принятие законов, отменяющих или умаляющих права человека.
В-пятых, существенным фактором стало появление на постсоветском пространстве так называемых «трудных» или антимажоритарных судебных решений, идущих в разрез с представлениями большинства в данном обществе о справедливости. Примером может служить вполне либеральное решение КС РФ о смертной казни, которое, однако, противоречило воле большинства (зафиксированной в результатах общественных опросов). Критики оценили данное решение как превышение судом своих полномочий, поскольку никто не запрашивал его о конституционности применения высшей меры наказания, а в случае необходимости проблема могла быть решена на законодательном уровне. В подобных ситуациях суд вынужден отказаться от чисто нормативистской логики решения и учитывать экстраконституционные (моральные, философские) соображения, постигая смысл и формируя новые ценности. Конфликт традиционалистских представлений населения о справедливости и судебной интерпретации позитивного права достигает в этой ситуации наивысшей степени.
Констатируется общий кризис доверия к правовой системе, ставящий под сомнение перспективы правового государства. Однако для предотвращения кризиса государства, наподобие крушения Веймарской республики, некоторыми судьями парадоксальным образом признается целесообразным не движение в сторону либерализации режима, но стремление сохранить элементы авторитаризма, присутствующие в управлении страной, говорится о необходимости установить пределы уступчивости в отношении решений Европейского суда и недопустимости расширения трактовки правовой этики во имя сохранения современного, пусть несовершенного, но гарантированного права. С этих позиций впечатление о деятельности судов в обществах переходного типа амбивалентно: их практика способствует расширению идеи законности, но одновременно не может игнорировать политический контекст этих решений. Обобщение позиций институтов контроля конституционности показывает, что постсоветская модель дает существенные сбои именно по линии обоснования меняющейся логики решений. Конституционное правосудие далеко от своей миссии беспристрастного института контроля конституционности.
Общественный идеал и реальность: цель в праве и перспективы политической модернизации
Конфликт представлений о справедливости (выраженный в доминирующих стереотипах правосознания) и позитивного права (выраженного в нормах действующего права) характерен для всех обществ переходного типа. В постсоветской России он предстает особенно четко в отношении к действующей Конституции. Конституция 1993 г., принятая в результате конституционной революции, во многом опережала социальную реальность, была в известной степени декларацией программы развития. В дальнейшем возник и начал осознаваться разрыв между нормами Конституции и реальностью. Выделяется три направления конституционной «напряженности», которые не являются специфически российскими, но проявляются особенно четко в дебатах постсоветского периода. Одно направление – объективное противоречие либеральных конституционных норм, имеющих западное происхождение (в основе которых – представление о приоритете прав личности), и российской политической традиции, которая исторически сформировалась на совершенно других основаниях, на основе представлений о слабости общества и всесилии государственной власти. Другое направление конституционной «напряженности» – противоречие между стратегией и тактикой. Можно ведь принять идею конституционной демократии, федерализма и разделения властей как отдаленную перспективную стратегию, но одновременно констатировать отсутствие предпосылок для ее практической реализации в полном объеме на современном этапе. В этом смысле конституционный параллелизм – закономерное выражение переходного периода, для которого характерно декларирование демократических норм, но одновременно отсутствие (или слабость) механизмов их практического воплощения. Подобная логика лучше всего выражается формулой «отложенной демократии», которая может вполне успешно легитимировать авторитарный режим. Третье направление конституционной напряженности связано не столько с юридическими аргументами, сколько с различным видением политических перспектив развития страны внутри властвующей элиты.
Противоречие демократических деклараций и практики конституционных реформ – отражение трудностей переходного периода и поиска приемлемой стратегии. В этом контексте показательно различие представлений о границах и содержании понятия «переходного периода»: одни исследователи рассматривают демократический транзит как кратковременный процесс (непосредственный революционный переворот, приведший к власти демократические силы в 90-е гг. ХХ в.), другие видят его как длительный процесс, включающий завершение демократической консолидации – формирование основ гражданского общества и правового государства, третьи – вообще отказываются видеть в нем движение вперед, интерпретируя его как «крушение государственности». Вопросы о том, закончился ли переходный период, насколько прочными оказались его результаты, – имеют очевидную политическую составляющую: принять, что закончился, значит констатировать, что демократия победила (что не очевидно), принять, что не закончился – значит согласиться с тезисом о незавершенности демократии или даже целесообразности поворота вспять от нее. Разрыв нормы и реальности в постсоветском обществе может быть преодолен диаметрально противоположным образом – либо путем поднятия общества до уровня Конституции, либо низведения последней до уровня понимания массового сознания. Первый путь связан с активной политической модернизацией и предполагает деятельное участие самого общества в этом движении. Второй путь – связан с адаптацией Конституции к господствующим стереотипам и означает эрозию конституционных норм с позиций так называемой «реальности». Он вполне совместим с политической апатией, утверждением стереотипов консервативной политической романтики и ведет к отказу от модернизации или даже конституционной ретрадиционализации[99 - Гражданское общество и правовое государство как факторы модернизации российской правовой системы. Спб., 2009.].
В постсоветском обществе представлено три диаметрально противоположные стратегии изменения Конституции. Первая (традиционалистская) стратегия (неославянофильская, неокоммунистическая и даже сословно-монархическая) заключается в отказе от западного вектора конституционализма, пересмотре именно тех положений Конституции, которые стали завоеванием либеральной революции 1993 г., и возвращении к историческим («национальным» как они считают) стереотипам и формам суррогатной демократии, которые представлены различными законосовещательными институтами – от Земских соборов и Съездов народных депутатов вплоть до идей возрождения сословного строя, цензовой избирательной системы, и даже аристократии и монархии. Сторонники этого взгляда указывают на разрыв позитивного права и реальности, трудности адаптации рациональных правовых конструкций к сознанию населения, но видят решение проблемы в возврате к архаичным формам политического устройства.
Вторая стратегия (сторонников модернизации и европеизации), напротив, связана с развитием принципов конституционной революции 1993 г., усилением европейского вектора конституционализма, а потому исходит из необходимости либерализации политической системы в соответствии с европейскими представлениями о разделении властей, и, в частности, необходимости изменений конституционной конструкции формы правления, направленных на укрепление парламентаризма и федерализма. Аргументация сторонников данной позиции включает отрицание исключительности российской ситуации, представление о возможности быстрой и решительной трансформации сознания общества в направлении западных ценностей свободы и прав личности, возможности их отстаивания в суде.
Третья стратегия выражается в представлении о том, что переходный период в России не завершен: для сохранения достижений либеральной революции необходимо сохранить сильную президентскую власть, способную проводить непопулярные реформы, в том числе через голову парламента и политических партий («метаконституционные» или «спящие» полномочия президента). Данная позиция исходит из представления о том, что сильная президентская власть является гарантом либерально-демократического вектора политической системы, а потому прагматически отстаивает возможность постепенной трансформации положений конституции, регламентирующих систему разделения властей. Очевидно, что эта точка зрения, близкая к идее «отложенной демократии», имеет право на существование только в том случае, если режим направляемой демократии действительно связан с целями демократических преобразований, а президентская власть не выходит за рамки просвещенной «республиканской монархии». Указанные позиции включают различные представления о самом масштабе необходимых конституционных реформ: от идеи полного пересмотра действующей конституции и замены ее новой – до сохранения конституции с осторожной и чрезвычайно прагматичной корректировкой отдельных ее положений в будущем.
С позиций идеала правового государства можно констатировать целесообразность обсуждения следующих направлений модернизации российской правовой системы: критика мифов современной консервативной политической романтики на основе профессионального знания и выявление потенциала конституционных норм для развития полноценной демократической модернизации; расширение гарантий общественного плюрализма (многопартийности, роли НПО и СМИ); решение проблем федерализма в соответствии с мировым опытом (более четкое разграничение предметов ведения федерации и субъектов, расширение и конкретизация компетенции законодательной и исполнительной власти последних, бюджетный федерализм) и бикамерализма (логика формирования верхней палаты в федеративном государстве); переход к функционирующей смешанной президентско-парламентской системе; повышение для этого контрольных функций парламента и достижение четкости в распределении полномочий между президентом и правительством (ответственное правительство); укрепление независимости судебной власти и легитимности «знаковых» судебных вердиктов; решение проблем правового обеспечения местного управления и самоуправления в его отношении к органам государственной власти; создание административной юстиции, наконец, преодоление традиционных стереотипов общественного сознания, связанных с отрицанием права как инструмента социального регулирования, неразвитостью механизмов спроса на право и доступа к правосудию[100 - Конституционное развитие России. Задачи институционального проектирования. М., 2007.].
На этом пути, как мы полагаем, следует искать преодоления разрыва права и справедливости в постсоветском обществе – примирения разума и традиции, идеала и реальности, солидарности и господства, юридической нормы и силы, легитимности и законности, публично-правовой этики, юридической доктрины и эффективности права, в целом – последовательного решения задач демократической модернизации.
Печатается по изданию: Медушевский А.Н. Право и справедливость в политических дебатах постсоветского периода // Сравнительное конституционное обозрение, 2012, № 2 (87). С. 14–34.
Раздел II
Либеральная парадигма в политической философии нового и новейшего времени
Французская революция и политическая философия русского конституционализма
В трудах ведущих русских философов, юристов и историков второй половины XIX – начала XX в., а также в их публицистике, переписке и мемуарах Французская революция предстает с различных сторон. Общим для них является подход к революции во Франции как к крупнейшему событию мировой истории, оказавшему огромное влияние на все сферы общественной жизни Европы и всего мира. Крупнейший русский теоретик и историк права А.Д. Градовский постоянно обращался к опыту Французской революции, раскрывая прежде всего ее закономерный характер. Французская революция, по его мнению, представляла собой всемирно-исторический процесс, начавшийся задолго до XVIII в., завершившийся не в одной Франции и не закончившийся событиями 1789–1799 гг. Он подчеркивал, что корни Французской революции следует искать и в Реформации, и в общем движении философских и научных идей, и в политических движениях Англии XVII и Америки XVIII вв. В то же время, отмечал он, «этот процесс из местного, каким он был для Англии и Америки, сделался всеевропейским во Франции и через Францию, умевшую обобщить новые формулы и популяризировать их всякими средствами»[101 - Градовский А.Д. Натурализм в истории. Собр. соч., т. 3, СПб., 1899. С. 536–537.]. Социологическое осмысление значения Французской революции находим у М.М. Ковалевского: он оценивал ее как грандиознейшую из всех революций, затронувшую одновременно и сферы землевладения, и сферы сословных отношений, гражданское и каноническое право, наложившую свою печать на местную и центральную администрацию, задевшую собою интересы не одной Франции, но и соседних с нею германских держав, создавшую причины столкновения с империей и папством. «Это, – писал он, – разрыв со всем прошлым Франции, и не одной только Франции, но и всего старого порядка, с его иерархическим расчленением общества на сеньоров и вассалов, с его корпоративным устройством ремесел и торговли, с его системой совладения крестьян с помещиками и разделом заработков между предпринимателями и рабочими, с его отрицанием свободной конкуренции и регламентацией землевладения и труда»[102 - Ковалевский М.М. Происхождение современной демократии, т. 2, М., 1895. С. 101.].
Однако главный интерес русских ученых был не исторический, а прежде всего политический, связанный непосредственно с теми практическими задачами, которые стояли перед русским обществом. Особенно актуальным для них был тот идеал права, который создало Просвещение накануне революции, результаты проверки этого идеала в ходе революции и противоречие между провозглашенными идеалами и реальностью». В центре внимания русского конституционализма в лице его ведущих идейных выразителей оказалась при этом правовая концепция просветителей, а это была, как известно, доктрина естественного права в ее наиболее рационалистической трактовке в лице двух ее главных и вместе с тем противоположных теорий Монтескье и Руссо. Именно в этом контексте следует интерпретировать то направление правовой мысли России, которое получило название «возрождение естественного права».
Для русского конституционализма конца XIX – начала XX в. основной теоретической проблемой являлось обоснование концепции правового государства новейшего времени. Обращение к естественно-правовым теориям прошлого было одним из важнейших средств, ведущих к достижению этой цели. В связи с этим особое значение приобретали именно те идеи просветителей, которые стремилась реализовать Французская революция, а именно – идея народного суверенитета и теория разделения властей. Наиболее последовательными выразителями этих идей являлись соответственно Руссо и Монтескье, а потому их теоретическое наследие оказалось в центре дискуссий в предреволюционной России, обозначив различные тенденции правовой мысли. По существу, это был спор о том, каким образом в правовом государстве можно согласовать начало народовластия с гарантиями прав личности.
Дело в том, что между теориями Руссо и Монтескье существовали серьезные различия и они в известном смысле представляли крайние полюсы широкого спектра политической философии просветителей. Исходя из традиций естественного права, Руссо считал стремление к свободе и равенству прирожденным свойством человеческой природы. Поэтому главное внимание в его концепции уделялось необходимости разрушения того общественного порядка, который, нарушая эти принципы, навязывает человечеству неприемлемые нормы и ценности. Уничтожение существующего строя, следовательно, уже само по себе возвращает человека к естественному, а значит, и более разумному порядку вещей. О том, что будет представлять из себя общество будущего в смысле его организации, управления и правовых гарантий, Руссо говорит гораздо более кратко и неопределенно, Монтескье, напротив, главное внимание обращал на эту именно сторону дела. Как и Руссо, Монтескье исходил из идеи естественного права в том смысле, что каждому человеку должен быть обеспечен определенный уровень свободы. Однако гораздо больше его интересовали конкретные средства достижения разумной социальной организации. Поэтому в отличие от Руссо с его идеями отказа от достижений цивилизаций Монтескье стремился найти свои доводы в историческом опыте развития конкретных форм государственного устройства. Отсюда и его обращение к сравнительно-историческому изучению государственного права, духа законов, административного устройства в самых различных их проявлениях – в Риме, Спарте, Китае, России, Польше и особенно Англии, на основе опыта которой он и строил свою известную теорию разделения властей.
Одним из направлений влияния Французской революции на общественную мысль России явилось распространение там теорий естественного права, приобретших особое социальное значение в Новое время, прежде всего в учениях французских просветителей, для обоснования прав человека в борьбе против феодальных порядков. Именно просветительская рационалистическая интерпретация естественного права оказала наиболее существенное влияние на передовую русскую общественную мысль и особенно юриспруденцию. Возникнув первоначально под непосредственным воздействием событий Французской революции и получив достаточно полное выражение в трудах юристов (наиболее крупным из которых было «Право естественное» А.П. Куницына)[103 - Куницын А.П. Право естественное, т. 1–2, СПб., 1818–1820.], теория эта подверглась в дальнейшем преследованиям со стороны правительства, уступив место официально санкционированной исторической школе права (первым крупным представителем которой в России стал ученик Савиньи К.А. Неволин, автор известной «Энциклопедии законоведения»)[104 - Неволин К.А. Энциклопедия законоведения. СПб., 1840.]. Тем больший интерес поэтому приобретает такое специфическое явление в истории русской общественной и юридической мысли, как возрождение теорий естественного права в пореформенный период, когда происходит становление и развитие русского конституционализма.
Возрождение естественного нрава в пореформенной России представляло собой широкое демократическое течение общественной мысли, которое нашло свое теоретическое обоснование в трудах ряда ведущих философов, юристов и историков. Если обращение к доктрине естественного права прослеживается уже у Б.Н. Чичерина, то дальнейшее развитие этой тенденции происходило в 80-е г. XIX в. и последующий период, когда оно представлено трудами П.И. Новгородцева, В.М. Гессена, Б.А. Кистяковского, И.А. Покровского, В.М. Хвостова, И.В. Михайловского, Л.И. Петражицкого, А.С. Ященко. В области философии права эти идеи выражали наиболее полно В.С. Соловьев, Е.Н. Трубецкой и Н.А. Бердяев. Среди представителей социологической школы права к интересующим нас проблемам неоднократно обращались такие юристы, как С.А. Муромцев, Н.М. Коркунов, М.М. Ковалевский, Ю.С. Гамбаров, Г.Ф. Шершеневич, Н.А. Гредескул и многие др. В их трудах нашла отражение тесная связь теоретических воззрений на право с теми общественными запросами, которые ставила эпоха, когда на первый план выходили именно те стороны учения естественного права времен Французской революции, которые стали наиболее актуальны в преддверии первой русской революции.
Следует подчеркнуть, однако, что на момент принятия Кодекса подавляющая часть сельского населения выступала против частной собственности на землю. В последующий период сохраняется ситуация «правовой неопределенности», которая включает, с одной стороны, фундаментальные изменения (главным из которых следует признать сам факт начала коммерческого использования земли), с другой – эти изменения носят во многом спонтанный характер и лишь в ограниченной степени регулируются правовым путем[79 - Medushevsky A. Power and Property in Russia: The Adoption of the Land Code // East European Constitutional Review, 2002. Volume II. Number 3 (summer).
The Transformation and Consolidation of Market Legislation in the Context of Constitutional Development and Judicial Reform in Russia. Moscow, 2004.]. Отсутствие правовых рычагов влияния на ситуацию заставляет обращаться в регионах к патерналистским квазиправовым способам ее регулирования с целью предотвращения роста социального напряжения.
Солидарность и господство: национальная идентичность и государственное устройство
Солидарность как понятие, выражающее степень социальной интеграции, сплоченности и когнитивного консенсуса в переходном обществе, способно выступать в органической и механической форме. Солидарность связана с понятием господства – осуществлением власти в институциональных формах, имеющих легитимное или нелегитимное выражение. Поиск их соотношения для достижения общественного единства представлен в направлениях конструирования постсоветской национальной идентичности. Концепция нации и «национального интереса» очень противоречива и включает различные дефиниции – гражданская нация, этническая нация, комбинация обоих, или некоторая сверхнациональная идентичность; нация как предпосылка государства (или империи), соперник незавершенного государства или его воплощение; нация как реальный исторический феномен или социологическая фикция. Такие темы, как «несформировавшаяся нация», «государствообразующая нация», «национальные приоритеты» являются предметом споров о российской идентичности[80 - Национализм в истории. М., 2008.]. В соответствии с этим представлены различные концепции господства и критериев легитимности основанных на нем политических институтов постсоветского периода.
Либеральным теориям «нового мышления», «общечеловеческих ценностей», «прав человека» и «правового государства», господствовавшим в 1990-х гг., брошен мощный вызов со стороны консервативной политической теологии и романтики[81 - Power and Legitimacy – Challenges from Russia. Ed. by Per-Arne Bodin, Stefan Hedlund and Elena Namli. London and New York, 2012; Медушевский А.Н. К критике консервативной политической романтики в постсоветской России // Российская история, 2012. № 1. С. 3–16.]. Консервативная политическая романтика провозглашает, что аутентичная русская цивилизация основана на преобладании национального государства и харизматического лидерства какого-либо типа (религиозной или светской идеологии). Естественной формой этой государственности должна быть Империя – сверхнациональная форма правящего класса и правительства (также в искусственно восстановленных архаичных формах). Преобладающая роль русской нации как «государствообразующей» нации должна быть обеспечена в этой Империи фиксированными правовыми нормами, включенными в конституцию или конституционные законы. Рациональным конструкциям государства противостоят крайне консервативные доктрины, опирающиеся на идею восстановления так называемой «Русской системы». «Русская система», – полагают они, – есть особая политическая форма соединения принципов солидарности и господства. Она сформировалась в результате уникального синтеза западных (Византия) и Восточных (Монгольское иго) форм, но не идентична им. Наиболее характерными чертами системы, в противоположность западным формам, являются: концентрация собственности и власти в одном центре – правящей элите, закрепощение всех сословий, абсолютный деспотический контроль государственной власти над обществом, который не может быть ограничен представительными институтами и позитивным правом[82 - Феномен русской власти. Материалы научного семинара. М., 2008, № 3 (12).]. Солидарность в этой интерпретации обусловлена исторически сформировавшимися отношениями общества и государства, а следовательно – тождественна традиционным формам господства[83 - Идеология и философия солидаризма. Материалы научного семинара. М., 2010. Вып. № 9.]. В противоположность западному опыту, этот тип власти базируется не на равновесии конфликтных социальных интересов, но на интересах самой власти, которая в силу этого не может быть трансформируема в нормальное правовое государство. Государство не было создано правом – как раз напротив, право есть порождение государства, которое получает возможность контролировать общество через религиозные и моральные обязательства и «диктатуру закона». Авторитаризм представляется как единственная возможность обеспечить солидарность общества и остановить разрушение «национальной идентичности». Конституционализм как таковой осуждается многими консервативными романтиками как искусственный продукт некритической европеизации 1990-х гг.
Решение проблемы национальной идентичности определяет обоснование формы государственного устройства, сочетающей единство государства с выражением исторической специфики регионов. Полярные концепции государственного устройства, представленные в постсоветский период, включают позиции сторонников восстановления унитарного государства – «единой и неделимой России» (так называемой «губернализации», т. е. структуры управления, существовавшей в Российской империи), федерализма и модели, близкой к конфедерации (сторонники которой активно выступали в период так называемого «парада суверенитетов» 1990-х гг.). Эти споры включают различные оценки той модели федерализма, которая была закреплена в Конституции 1993 г. как договорной или конституционной, децентрализованной или централизованной, принципиально различные воззрения на эволюцию этой конструкции и прерогативы центральной власти. Различие позиций в отношении действующей модели федерализма (национально-государственного самоопределения республик в рамках Конституции 1993 г. и Федеративного договора 1992 г.) представлено тремя позициями: эта модель федерализма должна быть отменена (поскольку исторически страна никогда не знала федерализма); она должна быть сохранена именно в своей конституционно-закрепленной форме как гарантия прав национальных республик; наконец, федерализм должен быть сохранен как важный элемент сдержек и противовесов, однако действующая его модель (выступающая наследием искусственного и нежизнеспособного советского национально-административного конструирования) должна быть пересмотрена исходя из представлений о гражданской нации. Первый подход выражает идеологию консервативных державников; второй – сторонников прежней советской легитимности (рассматривавшей федерализм как инструмент решения национального вопроса), третий – либеральных прагматиков[84 - Административно-территориальное устройство России. История и современность. М., 2003.]. Поиск новой концепции национальной идентичности (как «гражданской нации» в противоположность «этнической нации») сделал актуальным отказ от советской концепции федерализма и форм ее правового выражения. Это означало разработку концепции федерализма (или первоначально широкой культурно-национальной автономии), принципиально отличную от советской: во-первых, субъекты федерации не привязывались к нациям, а тем более этносам; во-вторых, исключалось право сецессии (юридически неуместное для федеративного государства); в-третьих, приоритет отдавался защите гражданских индивидуальных прав, а не национальных групп или меньшинств. Современные дебаты о модернизации российского федерализма включают именно эти темы: определение конституционной модели федерализма; преодоление асимметричности существующей модели; изменение соотношения национальных и социально-экономических границ субъектов и правовые возможности их пересмотра; бюджетный федерализм, федеральная интервенция, выборность губернаторов и создание эффективных институтов административного и судебного контроля над ними.
Различие подходов к федерализму обусловливает вариативность стратегий решения другой важной проблемы – формирования адекватной структуры законодательной власти: должен парламент состоять из одной или двух палат; фиксировать верхнюю палату в качестве административного института (как Государственный совет Российской империи); как представительство национальных субъектов федерации (и защиту их прав); представлять территориальные общности, независимо от проживающих на них наций. Этим позициям в определенной мере соответствуют выдвигаемые концепции бикамерализма – должен он быть сильным (когда две палаты по существу равны по своей роли в законодательном процессе, причем верхняя может блокировать решения нижней), слабым (когда эта симметрия и конгруэнтность палат отсутствует) или представлять собой некоторый промежуточный вариант (когда существует формально слабая модель бикамерализма, но верхняя палата обладает способностью блокировать часть законодательных актов, связанных с федерализмом). Исходя из этого представлены различные видения порядка формирования Совета Федерации, его реальной роли в решении конституционных и политических конфликтов (огромные конституционные полномочия верхней палаты по ст. 102 оказываются невостребованными ею); наконец, его функционирования как политического института. Здесь представлены как минимум пять основных моделей – корпоративистская, представительства от регионов, законодательного фильтра, беспристрастного арбитра, наконец, буфера в отношении регионов[85 - Совет Федерации. Эволюция статуса и функций. М.,2003.]. Этот перечень будет, однако, неполон без указания на такую крайнюю позицию, как предложение об отмене верхней палаты вообще или замене ее Государственным советом, перспективы и порядок формирования которого остаются предметом обсуждения. Троекратный порядок изменения процедуры формирования Совета Федерации (и параллельное воссоздание Государственного совета) в этом контексте – есть поиск оптимальной модели бикамерализма в постсоветской России. Этот поиск, как показывают текущие инициативы по реформированию верхней палаты, в том числе выдвинутые с принятием новейших поправок к Конституции 1993 г. – далек от завершающей стадии. Он отражает незавершенность российского федерализма, чрезвычайно различные видения его перспектив и возможностей политической организации в рамках верхней палаты – от стремления к полноценному федерализму до его превращения в номинальный. Существенное значение имеет конструирование внутреннего пространства – в решениях конституционных судов о границах централизации и децентрализации и ее типах (например, договорная или конституционная модели федерализма), определении того, в какой мере эти границы должны остаться неизменными, как должны решаться вопросы перераспределения полномочий центральных и региональных органов власти и формироваться сами эти органы (в частности, вопросы формирования губернаторского корпуса и местного самоуправления) – все это вопросы, принципиальные для вектора конституционно-правового развития.
Поиск согласования принципов солидарности и господства в рамках новой национальной идентичности получил концентрированное выражение в текущих спорах о доктрине суверенитета[86 - Идея суверенитета в российском, советском и постсоветском контексте. Материалы научного семинара. М., 2008. Вып. № 4 (13).]. В современных дебатах актуализируются такие его интерпретации как «национальный суверенитет», «народный суверенитет» и «государственный суверенитет» с различными выводами в отношении международного и внутреннего права, федерализма и централизации политической власти – необходимости выстраивания ее «вертикали» или, напротив, расширения социального контроля над ней. Внутренне противоречивая концепция «суверенной демократии», выдвинутая в качестве квазиофициального ответа на вызов «цветных революций», оказалась неприемлемой для крайних течений – консерваторов (отстаивавших суверенитет без демократии) и либералов (требовавших «демократию без прилагательных»). Но она не стала полноценным ориентиром и для прагматиков, поскольку не выдвигала четкого вектора преобразования государственности по мере завершения задач переходного периода.
Право и сила: форма правления и тип политического режима
Важным аспектом дискуссии о справедливости является тема соотношения права и силы. Существо конституционного кризиса предстает как противопоставление права (выражения нравственного идеала справедливости) и силы (не опирающейся на справедливость как нравственную основу). Между ними возможны три различных комбинации: перерождения права в силу (в результате чего право становится бессильным и происходит утверждение авторитаризма); столкновение одной силы с другой, когда каждая претендует на то, что является правом (на деле не являясь им в момент столкновения); и, наконец, превращение силы в право (когда происходит легитимация существующего порядка вещей). В постсоветский период первая комбинация ассоциировалась с коммунистическим режимом, вторая – с переходным периодом, третья – с перспективными задачами его трансформации в правовое государство. Выражением конфликта права и силы стало разграничение понятий социальной и конституционной революций – ключевой элемент стратегии правовых реформ. Либеральная программа исключала социальную революцию, предполагая, что социальные преобразования должны осуществляться правовыми методами. Однако, при решении конституционного вопроса в постсоветский период присутствовали различные стратегии – конституционной реформы и конституционной революции. Понятие конституционной революции принципиально отличалось от понятия социальной революции тем, что затрагивало исключительно сферу правового регулирования (такие изменения конституции, которые делаются с вынужденным нарушением положений предшествующего основного законодательства).
Обосновывая новую программу политического переустройства, сторонники демократических преобразований в принципе отстаивали реформационную стратегию против революционной, но допускали последнюю как вынужденную меру (не социальная, а именно конституционная революция).
Современные российские споры о правовом государстве в принципе соответствуют тем направлениям, которые представлены в классической юриспруденции. Они отражают, во-первых, различие философских концепций права и нравственности, соответственно усматривая в правовом государстве этический идеал, нормы позитивного права, отражающие социально-психологические или поведенческие стереотипы общества или, скорее, эффективную социологическую конструкцию, представляющую реализованный выбор данной эпохи. Во-вторых, масштаб понятия отражает столкновение идеологических установок общественных движений – либералов-западников, консерваторов-почвенников и прагматиков-реалистов, заимствуя у них основные аргументы (принятие западной модели правового государства, отказ от нее во имя сохранения «самобытности» или создание гибридных модификаций). Исходя из этого типология форм правового государства делает акцент на различные содержательные компоненты: различает либеральное правовое государство (провозглашение верховенства законов, принципа разделения властей и индивидуальных свобод); демократическое правовое государство (дополняющее концепцию широким правом политического участия) и социальное правовое государство (включающее принципы социальных гарантий и их реализации); или, наконец, привносит в данное понятие элементы социальной демократии, национализма или экологических доктрин, порожденных современными конституционными спорами (в том числе связанные с биологическими, экологическими и информационными правами третьего и четвертого поколений). В-третьих, проблемой является вопрос о форме правления и характере политического режима – должен он быть демократическим или авторитарным.
Как в начале ХХ в. (в ходе Первой русской революции), так и в его конце реализовалась модель конституционного устройства, вводящего слабый парламент и сильную власть главы государства. В постсоветский период Конституция 1993 г. ввела смешанный политический режим французского образца (в его голлистской интерпретации периода установления Пятой республики 1958 г.), который, однако, получил трактовку, позволяющую ему функционировать как президентский или даже сверхпрезидентский режим. Режим, созданный в результате конституционной революции 1993 г., во многом напоминал систему, сложившуюся в России после революции 1905–1907 гг., а Конституция 1993 г. оказалась схожей с «Основными законами Российской империи» в редакции 1906 г. в том, что касается статуса парламента и прерогатив главы государства. Данная система, определявшаяся как «мнимый конституционализм» не была, однако, тоталитарной: в обоих случаях означала несомненный шаг вперед в принятии принципов правового государства и разделения властей (однозначно отвергавшихся как абсолютистской, так и советской юридической доктриной и конституционной практикой)[87 - Medushevsky A.N. Russian Constitutionalism. Historical and contemporary development. London, Routledge, 2006.]. Современная Конституция России оказалась, следовательно, внутренне противоречива: реализуя в полном объеме либеральную концепцию прав личности и юридически фиксируя (впервые в российской истории) принцип разделения властей, она, в то же время, закрепляла достаточно авторитарную модель президентской власти, превращающую ее в движущую силу, решающий (если не единственный) инструмент политического процесса[88 - 15 лет Российской Конституции // Отечественная история, 2008, № 6.]. В результате возникла конструкция власти, которая формально интерпретируется как смешанная форма правления и совмещает ряд элементов классических форм правления (смешанной, президентской и сверхпрезидентской), но на деле представляет собой оригинальный вариант, прямых аналогов которому нет за пределами постсоветского пространства.
Это открывает возможности диаметрально противоположных интерпретаций действующей конституции – с позиций силы или права. Первый подход, реализованный в консервативных проектах политических реформ (крайне правой и левой направленности), представлен идеей «согласования конституции с реальностью» – отказа от правового государства как искусственного продукта европеизации 1990-х гг. Центральная часть консервативной программы и конституционных поправок направлена на пересмотр политической структуры государства в отношении таких принципов, как конституционализм, федерализм, парламентская демократия. Предлагаемая конституционная трансформация включает такие принципиальные изменения, как отмена ценностно-беспристрастного характера позитивного права, светского характера государства и образования, пересмотр и ограничение прав человека и либеральных свобод. Имела место длительная дискуссия о конституционной инкорпорации норм о государственной идеологии или принципов национальной доктрины. Согласно этим руководящим принципам были предложены правовые изменения в конституционное, международное, гражданское, уголовное, семейное, административное право, равно как и в законодательство, регулирующее средства массовой информации и пользование Интернетом[89 - Новые технологии борьбы с российской государственностью. М., 2009.].
Повестка консервативных политических реформ концентрируется на таких аспектах, как легитимность политического режима (которая ставится под радикальное сомнение), конституционные изменения (вплоть до отказа от действующей Конституции), структура власти (которая должна вернуться к историческим прототипам). Неприязнь массового сознания к партиям и политикам, неизбежно трансформирующаяся в неприятие парламентаризма, традиционно используется консерваторами для его критики. Консервативные критики поддержали стратегию ограничения парламентаризма и федерализма, правительственные решения по регулированию партий и неправительственных организаций, расширению сроков и прерогатив президентской власти, вообще меры против «агрессивного навязывания западной либеральной политической культуры» в других частях мира. Однако они оценивают их как непоследовательные и недостаточные, требуя радикализации консервативного курса. С этих позиций право (конструкция разделения властей) в случае необходимости должно быть пересмотрено с позиций силы – политического господства (которое не опирается на право, но само создает его), а предлагаемый способ пересмотра усматривается крайними националистами не в конституционных реформах, но в «консервативной революции». В конечном счете, под вопрос ставится сама идея правового государства, которое предлагается интерпретировать как диктатуру закона (понятие, не исключающее полицейское государство) или просто возврат к одной из традиционных форм авторитаризма.
Напротив, идея приоритета права над силой, господствовавшая в период принятия действующей Конституции, несмотря на революционный характер ее введения, требует восстановления полноценного парламентско-президентского режима и вполне соответствует логике проектов российского либерализма, позволяя осуществить в перспективе его лозунг об ответственном правительстве. С этих позиций актуален прагматический анализ дуалистических систем в истории, причин их неустойчивости; переворотов в них, а также других особенностей российских переходных режимов – прерогатив главы государства, соотношения указа и закона, института исключительного положения, указного права президента и контроля за его применением, метаконституционных полномочий главы государства и границ делегированных полномочий администрации.
Постсоветский конституционный цикл: легитимность и законность политической трансформации
Концепция переходного периода от авторитаризма к демократии сохраняет актуальность по следующим параметрам: соотношение понятий конституционной революции и конституционной реформы; моделей конституирующей (учредительной) и конституционной власти; преемственности и разрыва права, в частности, выработки правовых гарантий договорных отношений между политическими партиями, социально-психологической реакции на быстрые политические изменения переходного периода.
Динамическая концепция этих изменений, включающих конфликт правосознания и права, возможна с позиций теории цикличности. В этом контексте показательно выдвижение идеи Реставрации как возвращения к историческим и традиционным (а следовательно, более «справедливым») основам российской государственности. Консервативные романтики в постсоветской России, как и их предшественники, выступавшие после всех радикальных социальных переворотов в истории, считают реставрационный поворот необходимым по таким параметрам, как восстановление «нравственных основ» политической системы, исторической конструкции власти, легитимация ее на основе традиционалистских ценностей, пересмотр конституции в консервативном ключе. Так, для того, чтобы восстановить «симфонию» в отношениях между обществом и государством рекомендуется воспроизвести исторические институты, более соответствующие массовому сознанию в форме «Земского собора» или системы Советов как суррогатных форм социального представительства. Идея созыва Конституционного или Учредительного собрания с целью принять новую конституцию стала популярна в этих кругах. РПЦ играет важную роль в этих дебатах, доказывая преобладающий характер коллективного духа справедливости над индивидуальными правами человека и необходимость включить индивида в традиционную, основанную на религии, систему ценностей. Некоторые авторы идут так далеко, что выдвигают аргументы в пользу восстановления сословной системы, аристократии и даже монархии.
Далее, легитимность конструируемого режима, согласно консервативному подходу, должна основываться не на демократическом выборе, но на идее лояльности подданных суверену – государственной власти. В России идея лояльного поведения, подчинения верховной власти становится главной идей правых идеологических доктрин, таких документов, как, например, «Проект Россия», «Русская доктрина», «Манифест просвещенного консерватизма» и т. д. – эклектическом смешении старого консерватизма, социализма, национализма, славянофильских и евразийских учений. Наконец, пересмотр Конституции должен отражать эти ценности. Результатом этой программы конституционной трансформации становится возрождение социального утопизма – идеи переструктурирования мировой и внутренней политической повестки в понятиях консервативных ценностей, национальных интересов и авторитаризма, экспорта консервативной мессианской культуры в другие страны мира с целью остановить «гуманитарный империализм Запада» и подрывную активность скрытого «мирового правительства». Высшие принципы российской государственности, – полагают консервативные идеологи, – должны быть сформулированы и официально декларированы в качестве «Национальной доктрины». Все эти идеи поражают сходством с консервативными доктринами Германии периода Веймарской республики[90 - Идеология «особого пути» в России и Германии: истоки, содержание, последствия. М., 2010.].
Консервативная критика нравственных основ политической системы ведет к предложениям радикальной трансформации действующего права. Среди важных предложенных нововведений были жесткие антикоррупционные меры, восстановление применения смертной казни, ограничение роли международного гуманитарного права и Европейского суда по правам человека в национальных делах, усиление служб государственной безопасности в плане расширения их прерогатив, даже новое законодательство о туризме, направленное на снижение популярности заграничного туризма. Все подобные инициативы различных консервативных аналитических центров были представлены в выдвинутых проектах доктрин государственного суверенитета, государственной безопасности и информационной безопасности. Окказионализм – «магическая рука случая» и вера в провиденциального политического лидера выступает как другая сторона антипарламентских и антипартийных романтических настроений. Язык таких документов сходен с лексикой консервативных романтиков эпохи Бисмарка или Наполеона III, и воспроизводит многие идеологические штампы Веймарской Германии, Италии, Испании или Франции при Муссолини, Франко, Салазаре и Петене, но не заимствован из учебников современных историков или политологов[91 - Старо-новые российские мифы: кризис знания или сознания? Материалы российско-немецкого форума. М., 2009.].
Реставрационные идеи вполне соответствуют вектору реальной трансформации конституционного строя. Как в старой, так и в современной литературе критики обращают внимание на феномен параллельной конституции – изменения и преобразования конституции путем ее толкования и интерпретации. Дискуссия о том, являлась ли историческая модель ограничения власти в России начала ХХ в. полноценной конституцией или представляла собой скорее феномен мнимого конституционализма не привела к однозначному решению. Его не существует и в отношении современного конституционного строя, который определяется как направляемая демократия, параконституционализм, авторитаризм и даже латентная монархия. Поправки, принятые к Конституции 1993 г. в 2008 г., очевидно, не только не останавливают, но еще более укрепляют данный вектор развития конституционализма, вплотную подводя к реализации модели имперской президентской власти.
Конфликт права и справедливости, сформировавшийся в условиях конституционного кризиса периода Перестройки и, особенно, 1991–1993 гг., стал основой циклической динамики постсоветского конституционализма. Обозначив разрыв легитимности и законности, он заложил основу дебатов по всем ключевым вопросам – соотношения конституирующей и конституционной власти (необходимость созыва Конституанты или решение вопроса путем внесения поправок в действующую конституцию), возможности конституционной революции («консервативная революция» в противовес «цветным революциям») и конституционной реформы (стратегия последней интерпретируется в пользу консервативного поворота), учет срывов на этом пути (феномен переворотов в праве, конституционного параллелизма и мнимого конституционализма); разработка проведения административных и судебных реформ в обществе переходного типа; заимствования иностранных моделей и их эффективного функционирования в других социальных условиях; стратегии и тактики конституционных преобразований[92 - Конституционные проекты в России XVIII–XX вв. М., 2010.]. Предметом дебатов оказались вопросы политических прав и свободных выборов, отношения интеллигенции к власти (сотрудничества с правительством и лояльности ему или отказ в них), легитимности действующей власти с позиций традиционализма или модернизации[93 - Политические права и свободные выборы. М., 2005.]. Реакцией общества на трудности завершающей стадии постсоветского цикла стало появление концепции постсоветской Реставрации, оспаривающей одновременно справедливость и законность современного политического порядка и выдвинувшей жесткую и опасную альтернативу либеральной модели конституционализма.
Эффективность права: проблемы судебной интерпретации конституционализма
Право, как констатировалось ранее, включает такие составляющие, как ценность, норму и факт. Ценностный аспект права трудно, однако, отделить от его фактической реализации. Но именно эффективность права ставится под сомнение в обществах постсоветского типа по таким критериям, как направления судебного толкования права, применяемые доктрины и окончательность судебных решений, их беспристрастность и легитимность.
Во-первых, существенное значение имеет соотношение нейтрализма и активизма в судебном толковании Конституции[94 - Конституционное правосудие в посткоммунистических странах. М., 1999.]. Применительно к постсоветскому пространству судебный активизм был доминирующей философией Конституционных судов с 1990-х гг., когда решался вопрос о выборе политической системы и определении критериев ее оценки с позиций преодоления авторитарного правления[95 - Конституция Российской Федерации в решениях Конституционного Суда РФ. М., 2005.]. Он способствовал укреплению последовательного процесса конституционных реформ во время переходного периода и сохранению сдержек и противовесов конституционного правления[96 - Конституционные права в России: дела и решения. М., 2002.]. В период укрепления новой политической системы в деятельности суда начинает преобладать нейтральная позиция в осуществлении контроля конституционности. Наконец, последующий консервативный поворот в развитии конституционализма, связанный со стремлением обеспечить «стабильность» и «управляемость» ситуацией и укреплением для этого исполнительной вертикали власти перед угрозой внешних и внутренних вызовов, – поставил на повестку дня вопрос о пересмотре принципов и технологий судебного толкования с позиций «активизма наоборот» – самоустранения от решения наиболее острых вопросов[97 - Конституционный суд как гарант разделения властей. М., 2004.]. Так Конституционный суд РФ отказался рассмотреть вопрос о конституционности поправок 2008 г., хотя по закону о нем имеет право рассматривать все законы на предмет их конституционности. Аргументация суда состояла в следующем: КС не рассматривает законопроекты, пока они еще не стали законом, но не может рассматривать закон о поправках, поскольку они уже стали частью Конституции, а Суд не вправе рассматривать конституционность положений Конституции. Это означает, однако, что в случае «неконституционных конституционных поправок» (используя знаменитую немецкую формулу) – они не могут быть оспорены в суде. Оппозиция интерпретировала данные поправки (и прежде всего увеличение президентского мандата до 6 лет) именно таким образом, а в отказе суда рассмотреть их увидела проявление консервативной политической позиции.
Во-вторых, имеют значение используемые доктрины – про-конституционного, исторического, телеологического толкования или их соотношение, доктрина «живого права» или «невидимой конституции», так называемой «первичной законности», доктрина «необходимости» или даже «революционной законности», а также свобода суда в смене этих доктрин. Сюда следует отнести явное или скрытое обращение к доктринам, позволяющим Суду уклониться от принятия решений о конституционности (как доктрина «политических вопросов» или «усмотрения законодателя»). Особое значение для постсоветской практики имеет доктрина, регулирующая образование правовых позиций судов, степень их прецедентного или преюдициального характера, возможности их ретроактивного использования или отмены (например, в силу изменившихся социально-правовых обстоятельств). Ключевой пример – известное «губернаторское дело» – признание судом в 2005 г. конституционности новой редакции Закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ» 2004 г. Согласно этому акту вводился новый порядок избрания глав администрации субъектов Федерации: вместо прямых выборов населением губернатор стал избираться по представлению президента законодательным собранием региона, причем глава государства получил право отстранять губернатора от должности по целому ряду причин, а также распускать законодательное собрание в том случае, если оно дважды отклонило предложенную кандидатуру. Принятие данных положений, по мнению критиков, существенно ограничивало конституционные нормы о федерализме. В данном деле КС РФ, пересмотрев свою позицию в решении об устройстве органов власти Алтайского края 1996 г. (когда судьи уверенно поддержали прямой порядок избрания глав субъектов Федерации), выдвинул следующие аргументы: «правовые позиции, сформулированные Конституционным судом РФ, могут уточняться либо изменяться, с тем, чтобы адекватно выявить смысл тех или иных конституционных норм, их букву и дух, с учетом конкретных социально-правовых условий их реализации, в том числе с учетом изменений в системе правового регулирования». Возможно ли интерпретировать это положение как создание новой доктрины проконституционного толкования с позиций изменившейся реальности? И насколько широко (в плане судейского активизма) данная доктрина может быть использована в последующей практике?
В-третьих, вопросы финализма (окончательности) решений, или, напротив, возможность пересмотра судом своих собственных позиций; также общая направленность этих решений – на чью сторону в конечном счете становится суд – законодательной или исполнительной власти; государства или личности. В тех случаях, когда соответствующее судебное решение или его интерпретация не получает полноценного доктринального объяснения, возникают сомнения в их легитимности. Примером может служить дискуссия о соотношении международного и национального права в контексте отношения к решениям Европейского суда[98 - Россия и Совет Европы: перспективы взаимодействия. М., 2001; Стандарты Совета Европы в области прав человека применительно к положениям Конституции РФ. М., 2002.]. Так, решение ЕСПЧ по иску партии «Яблоко» об отмене результатов думских выборов 2003 г., имеющее по мнению его критиков политизированный характер (и даже таящее угрозу «цветной революции»), вызвало дебаты о «пределах уступчивости» со стороны российской судебной системы и целесообразности пересмотра ранее не подвергавшегося сомнению постулата абсолютности приоритета гуманитарного международного права над национальным – рассмотрения международного договора страны как части ее правовой системы, стоящего, однако, не выше Конституции. Этот подход воспринимается аналитиками как смена доктринальных установок КС РФ, способная существенно трансформировать отношение российской судебной системы к прецедентам европейского права.
В-четвертых, существует проблема политизации интерпретации фундаментальных конституционных прав в контексте изменяющейся социальной реальности. Так Конституционный суд РФ признал конституционность поправок в УПК 2008 г., которыми преступления, связанные с терроризмом, изымались из компетенции суда присяжных. Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам противодействия терроризму» действительно вывел из компетенции присяжных дела, касающиеся таких преступлений, как террористический акт, захват заложника, организация и участие в незаконном вооруженном формировании, массовые беспорядки, государственная измена, шпионаж, насильственный захват или удержание власти, вооруженный мятеж и диверсия. С решением суда не согласился ряд судей, говоривших о «деконституционализации» прав граждан на судебную защиту и адвокатов, заявивших о нарушении конституционного запрета на принятие законов, отменяющих или умаляющих права человека.
В-пятых, существенным фактором стало появление на постсоветском пространстве так называемых «трудных» или антимажоритарных судебных решений, идущих в разрез с представлениями большинства в данном обществе о справедливости. Примером может служить вполне либеральное решение КС РФ о смертной казни, которое, однако, противоречило воле большинства (зафиксированной в результатах общественных опросов). Критики оценили данное решение как превышение судом своих полномочий, поскольку никто не запрашивал его о конституционности применения высшей меры наказания, а в случае необходимости проблема могла быть решена на законодательном уровне. В подобных ситуациях суд вынужден отказаться от чисто нормативистской логики решения и учитывать экстраконституционные (моральные, философские) соображения, постигая смысл и формируя новые ценности. Конфликт традиционалистских представлений населения о справедливости и судебной интерпретации позитивного права достигает в этой ситуации наивысшей степени.
Констатируется общий кризис доверия к правовой системе, ставящий под сомнение перспективы правового государства. Однако для предотвращения кризиса государства, наподобие крушения Веймарской республики, некоторыми судьями парадоксальным образом признается целесообразным не движение в сторону либерализации режима, но стремление сохранить элементы авторитаризма, присутствующие в управлении страной, говорится о необходимости установить пределы уступчивости в отношении решений Европейского суда и недопустимости расширения трактовки правовой этики во имя сохранения современного, пусть несовершенного, но гарантированного права. С этих позиций впечатление о деятельности судов в обществах переходного типа амбивалентно: их практика способствует расширению идеи законности, но одновременно не может игнорировать политический контекст этих решений. Обобщение позиций институтов контроля конституционности показывает, что постсоветская модель дает существенные сбои именно по линии обоснования меняющейся логики решений. Конституционное правосудие далеко от своей миссии беспристрастного института контроля конституционности.
Общественный идеал и реальность: цель в праве и перспективы политической модернизации
Конфликт представлений о справедливости (выраженный в доминирующих стереотипах правосознания) и позитивного права (выраженного в нормах действующего права) характерен для всех обществ переходного типа. В постсоветской России он предстает особенно четко в отношении к действующей Конституции. Конституция 1993 г., принятая в результате конституционной революции, во многом опережала социальную реальность, была в известной степени декларацией программы развития. В дальнейшем возник и начал осознаваться разрыв между нормами Конституции и реальностью. Выделяется три направления конституционной «напряженности», которые не являются специфически российскими, но проявляются особенно четко в дебатах постсоветского периода. Одно направление – объективное противоречие либеральных конституционных норм, имеющих западное происхождение (в основе которых – представление о приоритете прав личности), и российской политической традиции, которая исторически сформировалась на совершенно других основаниях, на основе представлений о слабости общества и всесилии государственной власти. Другое направление конституционной «напряженности» – противоречие между стратегией и тактикой. Можно ведь принять идею конституционной демократии, федерализма и разделения властей как отдаленную перспективную стратегию, но одновременно констатировать отсутствие предпосылок для ее практической реализации в полном объеме на современном этапе. В этом смысле конституционный параллелизм – закономерное выражение переходного периода, для которого характерно декларирование демократических норм, но одновременно отсутствие (или слабость) механизмов их практического воплощения. Подобная логика лучше всего выражается формулой «отложенной демократии», которая может вполне успешно легитимировать авторитарный режим. Третье направление конституционной напряженности связано не столько с юридическими аргументами, сколько с различным видением политических перспектив развития страны внутри властвующей элиты.
Противоречие демократических деклараций и практики конституционных реформ – отражение трудностей переходного периода и поиска приемлемой стратегии. В этом контексте показательно различие представлений о границах и содержании понятия «переходного периода»: одни исследователи рассматривают демократический транзит как кратковременный процесс (непосредственный революционный переворот, приведший к власти демократические силы в 90-е гг. ХХ в.), другие видят его как длительный процесс, включающий завершение демократической консолидации – формирование основ гражданского общества и правового государства, третьи – вообще отказываются видеть в нем движение вперед, интерпретируя его как «крушение государственности». Вопросы о том, закончился ли переходный период, насколько прочными оказались его результаты, – имеют очевидную политическую составляющую: принять, что закончился, значит констатировать, что демократия победила (что не очевидно), принять, что не закончился – значит согласиться с тезисом о незавершенности демократии или даже целесообразности поворота вспять от нее. Разрыв нормы и реальности в постсоветском обществе может быть преодолен диаметрально противоположным образом – либо путем поднятия общества до уровня Конституции, либо низведения последней до уровня понимания массового сознания. Первый путь связан с активной политической модернизацией и предполагает деятельное участие самого общества в этом движении. Второй путь – связан с адаптацией Конституции к господствующим стереотипам и означает эрозию конституционных норм с позиций так называемой «реальности». Он вполне совместим с политической апатией, утверждением стереотипов консервативной политической романтики и ведет к отказу от модернизации или даже конституционной ретрадиционализации[99 - Гражданское общество и правовое государство как факторы модернизации российской правовой системы. Спб., 2009.].
В постсоветском обществе представлено три диаметрально противоположные стратегии изменения Конституции. Первая (традиционалистская) стратегия (неославянофильская, неокоммунистическая и даже сословно-монархическая) заключается в отказе от западного вектора конституционализма, пересмотре именно тех положений Конституции, которые стали завоеванием либеральной революции 1993 г., и возвращении к историческим («национальным» как они считают) стереотипам и формам суррогатной демократии, которые представлены различными законосовещательными институтами – от Земских соборов и Съездов народных депутатов вплоть до идей возрождения сословного строя, цензовой избирательной системы, и даже аристократии и монархии. Сторонники этого взгляда указывают на разрыв позитивного права и реальности, трудности адаптации рациональных правовых конструкций к сознанию населения, но видят решение проблемы в возврате к архаичным формам политического устройства.
Вторая стратегия (сторонников модернизации и европеизации), напротив, связана с развитием принципов конституционной революции 1993 г., усилением европейского вектора конституционализма, а потому исходит из необходимости либерализации политической системы в соответствии с европейскими представлениями о разделении властей, и, в частности, необходимости изменений конституционной конструкции формы правления, направленных на укрепление парламентаризма и федерализма. Аргументация сторонников данной позиции включает отрицание исключительности российской ситуации, представление о возможности быстрой и решительной трансформации сознания общества в направлении западных ценностей свободы и прав личности, возможности их отстаивания в суде.
Третья стратегия выражается в представлении о том, что переходный период в России не завершен: для сохранения достижений либеральной революции необходимо сохранить сильную президентскую власть, способную проводить непопулярные реформы, в том числе через голову парламента и политических партий («метаконституционные» или «спящие» полномочия президента). Данная позиция исходит из представления о том, что сильная президентская власть является гарантом либерально-демократического вектора политической системы, а потому прагматически отстаивает возможность постепенной трансформации положений конституции, регламентирующих систему разделения властей. Очевидно, что эта точка зрения, близкая к идее «отложенной демократии», имеет право на существование только в том случае, если режим направляемой демократии действительно связан с целями демократических преобразований, а президентская власть не выходит за рамки просвещенной «республиканской монархии». Указанные позиции включают различные представления о самом масштабе необходимых конституционных реформ: от идеи полного пересмотра действующей конституции и замены ее новой – до сохранения конституции с осторожной и чрезвычайно прагматичной корректировкой отдельных ее положений в будущем.
С позиций идеала правового государства можно констатировать целесообразность обсуждения следующих направлений модернизации российской правовой системы: критика мифов современной консервативной политической романтики на основе профессионального знания и выявление потенциала конституционных норм для развития полноценной демократической модернизации; расширение гарантий общественного плюрализма (многопартийности, роли НПО и СМИ); решение проблем федерализма в соответствии с мировым опытом (более четкое разграничение предметов ведения федерации и субъектов, расширение и конкретизация компетенции законодательной и исполнительной власти последних, бюджетный федерализм) и бикамерализма (логика формирования верхней палаты в федеративном государстве); переход к функционирующей смешанной президентско-парламентской системе; повышение для этого контрольных функций парламента и достижение четкости в распределении полномочий между президентом и правительством (ответственное правительство); укрепление независимости судебной власти и легитимности «знаковых» судебных вердиктов; решение проблем правового обеспечения местного управления и самоуправления в его отношении к органам государственной власти; создание административной юстиции, наконец, преодоление традиционных стереотипов общественного сознания, связанных с отрицанием права как инструмента социального регулирования, неразвитостью механизмов спроса на право и доступа к правосудию[100 - Конституционное развитие России. Задачи институционального проектирования. М., 2007.].
На этом пути, как мы полагаем, следует искать преодоления разрыва права и справедливости в постсоветском обществе – примирения разума и традиции, идеала и реальности, солидарности и господства, юридической нормы и силы, легитимности и законности, публично-правовой этики, юридической доктрины и эффективности права, в целом – последовательного решения задач демократической модернизации.
Печатается по изданию: Медушевский А.Н. Право и справедливость в политических дебатах постсоветского периода // Сравнительное конституционное обозрение, 2012, № 2 (87). С. 14–34.
Раздел II
Либеральная парадигма в политической философии нового и новейшего времени
Французская революция и политическая философия русского конституционализма
В трудах ведущих русских философов, юристов и историков второй половины XIX – начала XX в., а также в их публицистике, переписке и мемуарах Французская революция предстает с различных сторон. Общим для них является подход к революции во Франции как к крупнейшему событию мировой истории, оказавшему огромное влияние на все сферы общественной жизни Европы и всего мира. Крупнейший русский теоретик и историк права А.Д. Градовский постоянно обращался к опыту Французской революции, раскрывая прежде всего ее закономерный характер. Французская революция, по его мнению, представляла собой всемирно-исторический процесс, начавшийся задолго до XVIII в., завершившийся не в одной Франции и не закончившийся событиями 1789–1799 гг. Он подчеркивал, что корни Французской революции следует искать и в Реформации, и в общем движении философских и научных идей, и в политических движениях Англии XVII и Америки XVIII вв. В то же время, отмечал он, «этот процесс из местного, каким он был для Англии и Америки, сделался всеевропейским во Франции и через Францию, умевшую обобщить новые формулы и популяризировать их всякими средствами»[101 - Градовский А.Д. Натурализм в истории. Собр. соч., т. 3, СПб., 1899. С. 536–537.]. Социологическое осмысление значения Французской революции находим у М.М. Ковалевского: он оценивал ее как грандиознейшую из всех революций, затронувшую одновременно и сферы землевладения, и сферы сословных отношений, гражданское и каноническое право, наложившую свою печать на местную и центральную администрацию, задевшую собою интересы не одной Франции, но и соседних с нею германских держав, создавшую причины столкновения с империей и папством. «Это, – писал он, – разрыв со всем прошлым Франции, и не одной только Франции, но и всего старого порядка, с его иерархическим расчленением общества на сеньоров и вассалов, с его корпоративным устройством ремесел и торговли, с его системой совладения крестьян с помещиками и разделом заработков между предпринимателями и рабочими, с его отрицанием свободной конкуренции и регламентацией землевладения и труда»[102 - Ковалевский М.М. Происхождение современной демократии, т. 2, М., 1895. С. 101.].
Однако главный интерес русских ученых был не исторический, а прежде всего политический, связанный непосредственно с теми практическими задачами, которые стояли перед русским обществом. Особенно актуальным для них был тот идеал права, который создало Просвещение накануне революции, результаты проверки этого идеала в ходе революции и противоречие между провозглашенными идеалами и реальностью». В центре внимания русского конституционализма в лице его ведущих идейных выразителей оказалась при этом правовая концепция просветителей, а это была, как известно, доктрина естественного права в ее наиболее рационалистической трактовке в лице двух ее главных и вместе с тем противоположных теорий Монтескье и Руссо. Именно в этом контексте следует интерпретировать то направление правовой мысли России, которое получило название «возрождение естественного права».
Для русского конституционализма конца XIX – начала XX в. основной теоретической проблемой являлось обоснование концепции правового государства новейшего времени. Обращение к естественно-правовым теориям прошлого было одним из важнейших средств, ведущих к достижению этой цели. В связи с этим особое значение приобретали именно те идеи просветителей, которые стремилась реализовать Французская революция, а именно – идея народного суверенитета и теория разделения властей. Наиболее последовательными выразителями этих идей являлись соответственно Руссо и Монтескье, а потому их теоретическое наследие оказалось в центре дискуссий в предреволюционной России, обозначив различные тенденции правовой мысли. По существу, это был спор о том, каким образом в правовом государстве можно согласовать начало народовластия с гарантиями прав личности.
Дело в том, что между теориями Руссо и Монтескье существовали серьезные различия и они в известном смысле представляли крайние полюсы широкого спектра политической философии просветителей. Исходя из традиций естественного права, Руссо считал стремление к свободе и равенству прирожденным свойством человеческой природы. Поэтому главное внимание в его концепции уделялось необходимости разрушения того общественного порядка, который, нарушая эти принципы, навязывает человечеству неприемлемые нормы и ценности. Уничтожение существующего строя, следовательно, уже само по себе возвращает человека к естественному, а значит, и более разумному порядку вещей. О том, что будет представлять из себя общество будущего в смысле его организации, управления и правовых гарантий, Руссо говорит гораздо более кратко и неопределенно, Монтескье, напротив, главное внимание обращал на эту именно сторону дела. Как и Руссо, Монтескье исходил из идеи естественного права в том смысле, что каждому человеку должен быть обеспечен определенный уровень свободы. Однако гораздо больше его интересовали конкретные средства достижения разумной социальной организации. Поэтому в отличие от Руссо с его идеями отказа от достижений цивилизаций Монтескье стремился найти свои доводы в историческом опыте развития конкретных форм государственного устройства. Отсюда и его обращение к сравнительно-историческому изучению государственного права, духа законов, административного устройства в самых различных их проявлениях – в Риме, Спарте, Китае, России, Польше и особенно Англии, на основе опыта которой он и строил свою известную теорию разделения властей.
Одним из направлений влияния Французской революции на общественную мысль России явилось распространение там теорий естественного права, приобретших особое социальное значение в Новое время, прежде всего в учениях французских просветителей, для обоснования прав человека в борьбе против феодальных порядков. Именно просветительская рационалистическая интерпретация естественного права оказала наиболее существенное влияние на передовую русскую общественную мысль и особенно юриспруденцию. Возникнув первоначально под непосредственным воздействием событий Французской революции и получив достаточно полное выражение в трудах юристов (наиболее крупным из которых было «Право естественное» А.П. Куницына)[103 - Куницын А.П. Право естественное, т. 1–2, СПб., 1818–1820.], теория эта подверглась в дальнейшем преследованиям со стороны правительства, уступив место официально санкционированной исторической школе права (первым крупным представителем которой в России стал ученик Савиньи К.А. Неволин, автор известной «Энциклопедии законоведения»)[104 - Неволин К.А. Энциклопедия законоведения. СПб., 1840.]. Тем больший интерес поэтому приобретает такое специфическое явление в истории русской общественной и юридической мысли, как возрождение теорий естественного права в пореформенный период, когда происходит становление и развитие русского конституционализма.
Возрождение естественного нрава в пореформенной России представляло собой широкое демократическое течение общественной мысли, которое нашло свое теоретическое обоснование в трудах ряда ведущих философов, юристов и историков. Если обращение к доктрине естественного права прослеживается уже у Б.Н. Чичерина, то дальнейшее развитие этой тенденции происходило в 80-е г. XIX в. и последующий период, когда оно представлено трудами П.И. Новгородцева, В.М. Гессена, Б.А. Кистяковского, И.А. Покровского, В.М. Хвостова, И.В. Михайловского, Л.И. Петражицкого, А.С. Ященко. В области философии права эти идеи выражали наиболее полно В.С. Соловьев, Е.Н. Трубецкой и Н.А. Бердяев. Среди представителей социологической школы права к интересующим нас проблемам неоднократно обращались такие юристы, как С.А. Муромцев, Н.М. Коркунов, М.М. Ковалевский, Ю.С. Гамбаров, Г.Ф. Шершеневич, Н.А. Гредескул и многие др. В их трудах нашла отражение тесная связь теоретических воззрений на право с теми общественными запросами, которые ставила эпоха, когда на первый план выходили именно те стороны учения естественного права времен Французской революции, которые стали наиболее актуальны в преддверии первой русской революции.