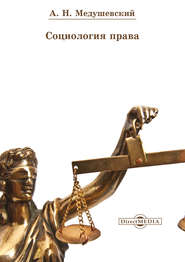По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Социология права
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Разрушение устойчивых корпоративных объединений, свойственных феодальному обществу, сопровождалось выходом масс на историческую арену, развитием социальных движений, формированием политических партий. Именно в ходе Французской революции и последующего осмысления социального вопроса (возникающего в связи с кризисом аграрного общества и индустриальной революцией) идет формирование основных идеологий современности – либерализма, консерватизма и социализма). Их вклад в социальную теорию может быть показан в перспективе отношения к основным лозунгам Французской революции, прежде всего – свободы и равенства, лежащих в основе главных концепций демократии. Если идеологи являются продуктом формирующегося гражданского общества, то несомненна и обратная связь: проявление идеологий (в религиозной форме, в форме естественного права или исторического материализма) и острота идеологических споров, раскалывающих общество, являются одними из признаков надвигающихся социальных революций (18).
Процесс появления основных идеологий, следовательно, неотъемлем от процесса становления гражданского общества, основными характерными чертами которого становились: формальное равенство всех перед законом, всеобщее избирательное право, возможность объединения по идеологическим параметрам и участия в проведении своих политических идеалов (через парламенты и партии). Конкурирующие социальные группы начинают противопоставлять друг другу свои идеологии, но идет и обратный процесс – появление особого слоя теоретиков и идеологов, которые сознательно разрабатывают целостные концепции социального развития, претендующие на научность и в то же время понятность широким массам. Данный процесс связан также с возникновением современных партий, разрабатывающих свои политические программы с целью захвата власти, которые вынуждены бороться за привлечение широкой массовой поддержки.
Разрешение этого конфликта великими мыслителями прошлого полагалось в двух основных формах. Один из них исходил из более наивного представления, что общественный порядок так же естественен, как само существование человека. Согласно этому представлению (самым лучшим его представителем является Руссо), он функционирует в человеческом обществе примерно так же, как в мире высших животных функционирует свой «естественный» порядок. Отсюда и возникают представления о так называемом естественном праве («человек рождается свободным», живет в гармонии с природой) и лишь последующее развитие (форм собственности, торговли и проч.) нарушает эту гармонию. Отсюда можно было сделать достаточно простой и внешне логичный вывод о том, что высвобождение от оков цивилизации (с которой в новое время ассоциировались прежде всего капиталистические отношения) поможет вернуть человеческое общество к естественному порядку социальной гармонии. Не все философы эпохи начала Великих перемен разделяли этот взгляд. Наиболее ярко мы видим это в учении Монтескье, который отстаивал другую позицию, что общество, с его правовыми ограничениями и определенными формами государственного устройства, есть не только и не столько продукт естественного развития человеческих групп, но прежде всего определенный качественно-новый опыт, сконцентрированный и зафиксированный в рамках некоторого общественного договора: права отдельного индивида делегируются единому общественному институту – государству, обеспечивающему гарантию определенной стабильности, защиту, даже распределительные функции в условиях ограниченности ресурсов. Мы видим два великих учения в Англии (Гоббс и Локк), Франции (Руссо и Монтескье), Германии (Гегель и Маркс), которые выявили две эти возможности и фактически создали теоретические основы для формирования мощных идеологических движений нового времени – революционных и реформационных.
Предпосылками формирования идеологий в переходную эпоху становятся разрыв общества и государства; новая инфраструктура самого гражданского общества, способствующая формированию общественного мнения; появление особого слоя, берущего на себя функции осмысления социальных противоречий и предлагающего способы их разрешения. Первая тенденция выражается прежде всего в противопоставлении гражданского общества государству, частного права – публичному, политики – морали, общественных союзов и объединений – бюрократии (19). Вторая тенденция ведет к появлению такой инфраструктуры гражданского общества, для которой характерны разрушение традиционной структуры семьи, сословных отношений, поляризация частной (интимной) и общественной (социальной) сфер жизни, новая система коммуникаций, способствующая формированию «общественного мнения» (сюда следует отнести прессу, клубы, даже кофейни). Важнейшим центром коммуникации между обществом и властью становится парламент, где идет постоянный диалог между представителями общества (политическими партиями) и государственной властью (правительство, администрация) (20). Общественное мнение выступает при переходе к демократии (в условиях классической модели парламентаризма британского типа) как влиятельная сила, а возможность его формирования – как источник реальной власти. Наконец, третья тенденция, особенно важная в контексте данного исследования, выражается в появлении особого общественного слоя, формирующего общественное мнение и занимающегося созданием важнейших компонентов всякой идеологии – разработкой теоретических учений, а иногда также организацией их социальной поддержки. Речь идет об «общественности» (der ?ffentlichkeit) – социальном слое Европы XIX в., который выступает от имени всего общества, претендует на выражение самых широких интересов и оказывается посредником между обществом и властью. Социальный статус «общественности» (понятие, близкое к французскому пониманию интеллектуалов) определяется новым светским образованием, рациональными нормами поведения и морали, новыми коммуникациями и информационной средой (газеты, публицистика, парламентские дебаты), наконец, появлением политических партий и усилением их роли в парламенте (21). Создание основных моделей идеологического переустройства общества – результат интеллектуальной деятельности данного социального слоя, имевшего средства, досуг и прекрасное образование для осуществления этой задачи. По мере развития демократических институтов, однако, роль «общественности» имеет тенденцию к ослаблению в связи с расширением интеграции общества и государства через непосредственное взаимодействие политических партий и государственной администрации. Другой, противоположной, тенденцией, существенно влияющей на этот процесс и хорошо показанной М.Я. Острогорским, М. Вебером и Р. Михельсом, становится бюрократизация самих общественных союзов и партий и падение роли парламентских дебатов (22). В дальнейшем, на рубеже XIX–XX вв. остро встает дилемма соотношения демократии и эффективности, каналов коммуникаций и политического контроля над ними. В условиях социального конфликта общественность (или интеллигенция) принимает одну из двух концепций развития – революции или реформы.
Как мы уже говорили, идеология наряду с учением должна иметь широкую общественную поддержку: по существу идеология отличается от научного учения тем, что в ней ставится задача реализовать теоретически выведенный идеал на практике и обязательно привлечь для этого широкую группу идеологической поддержки. И здесь становится понятной неравноценность различных теорий для их распространения в массовом сознании. Понятно, что наиболее привлекательными являются те учения, которые волюнтаристски заявляют о торжестве народной воли, ее могуществе для воссоздания нового общества и, соответственно, предполагают одномоментный, быстрый и результативный выход из конфликта. Идея разрушения государства привлекает своей простотой и полной реальностью; идея уравнительности и борьбы со всякого рода привилегиями также весьма привлекательна. На этой почве легко вырастает идея революционного ниспровержения существующего порядка (и права), недостатки которого (в отличие от достоинств) вполне очевидны и могут быть продемонстрированы наглядно. Так возникают предпосылки для создания мощных идеологических движений новейшего времени. Потеря широкими массами необходимого уровня социальной защищенности, утрата единой картины мира и социальная дезориентация имеют следствием кризис социальной идентичности, который Маркс определял как «отчуждение», Дюркгейм – как «аномию» (23). Возникает феномен, удачно названный Э. Фроммом бегством от свободы – стремление восстановить привычную и простую картину мира в рамках новой мобилизационной идеологии (24). Идет поиск новых психологических эквивалентов утраченных культурных, политических религиозных связей, на которых основывался старый социальный порядок. Протестный потенциал массового сознания при любой конфликтной ситуации вновь возвращает все те же элементы общественных учений, которые были основаны на отрицании собственности, разрушении государства, на идеалах деревенской идиллии естественного существования и т. д. По мере того, как те или иные конфликтные ситуации оказываются осознанными новыми группами населения планеты, становится возможным наблюдать воспроизведение все тех же антиправовых, антигосударственных, антикультурных тенденций, давно превратившихся в лозунги. Характерным признаком таких мобилизационных идеологий и используемых ими технологий является противопоставление адептов своей группы (для которых предполагается достижение идеального будущего) всем остальным (по национальному, религиозному, культурному, гендерному, профессиональному и любому другому критериям).
Формирование жестких мобилизационных идеологий возможно отнюдь не во всякую эпоху и требует известных социальных предпосылок. Современная социология революции объясняет причины появления таких идеологий на пике революционных изменений. Между традиционным и рациональным обществом всегда существует переходная стадия утраты доминирующих систем социальной иерархии, контроля и самоконтроля (феномен «потери хозяина»). Новые правила и нормы социального поведения уже перестали быть исключением, но еще не стали укорененными (рутинизированными). Так возникает объективная тенденция к формированию авторитарных доктрин, выражающих потребность широких социальных слоев в интеграции, жесткой самодисциплине и поиске своего рода идеологической «смирительной рубашки». Особенность этих идеологических доктрин – подавление индивидуальной свободы во имя некоего высшего идеала. Для всех конкретных исторических проявлений подобных идеологий в разных странах характерны три содержательных компонента: жесткое неприятие традиционного мира и доминирующих в нем образцов социальных отношений; глубокое недоверие к человеческой природе и опасение грядущего социального хаоса; и, наконец, стремление набросить на шею человечества ярмо новой абстрактной политической дисциплины. Она должна иметь добровольный характер, который вытекает из сознательного принятия индивидом данной идеологии, однако в случае его отказа от этого должна быть внедрена в общество путем репрессий. Очевидно, что либеральная идеология плохо подходила для осуществления этой насильственной перестройки общества, поскольку изначально не содержала представления о греховности и порочности человека и необходимости, в силу этого, его перевоспитания государством, основанного прежде всего на абстрактных идеологических постулатах и жестких религиозных (или квази-религиозных) моральных нормах и дисциплине. Напротив, именно эти признаки характерны для основных революционных доктрин – кальвинистов и английских пуритан XVI–XVII вв., с их верой в божественное предопределение; французских якобинцев XVIII в. с их представлениями об абстрактных и вечных законах разума, русских большевиков XX в. с их верой в постулаты исторического материализма и неизбежной победы коммунизма, наконец, современных исламских фундаменталистов, воззрения которых имеют много общего со всеми предшествующими попытками религиозного обоснования революции. Появление подобных экстремистских течений, идеологию которых один автор определил как «революционную святость», – само по себе является выражением кризиса старого общества. Оно отражает стремление наиболее оппозиционной его части (религиозных и политических диссидентов) объединиться вне пределов традиционной социальной иерархии; разработать новые системы контроля и ценностных ориентаций (например, известная протестантская аскеза, которую Вебер считал выражением стремления к капиталистической рационализации, гражданская религия якобинцев или моральный кодекс строителей коммунизма у большевиков); разделить мир на приверженцев и противников своей идеологии и, наконец, фанатически строить грядущее царство добродетели. Именно для этих идеологий социальная утопия является неотъемлемым компонентом, а их реализация на практике неизбежно приводила к резкому усилению бюрократического контроля в обществе (25). Формирование идеологий, таким образом, идет параллельно становлению новой революционной легитимности. Создание идеологических моделей (или «мифов») есть результат творческой фантазии идеологов – теологов, философов или литераторов. Однако их принятие социальными движениями и тем более осуществление на их основе определенной программы социальных преобразований есть дело «профессиональных революционеров», осуществляющих стратегическое планирование, а также текущий «учет и контроль» социальной реальности. Это означает, что в создании всякой мобилизационной идеологии существенное значение отводится двум социальным категориям – философам, задачей которых является производство идеологических мифов (которые могут быть многообразны и конкурировать между собой на рынке идеологической продукции), и политическим практикам – революционным демагогам, агитаторам, а позднее новым администраторам. Очень редко в истории эти два подхода к идеологии совмещаются в одной социальной группе или даже одном лице – революционном «философе на троне», поскольку объективно их задачи различны и на определенном этапе вступают в конфликт. Данный феномен четко прослеживается в ходе крупнейших революций, являющихся если не «локомотивами истории», то, во всяком случае, безусловно, «локомотивами идеологий». Все они начинаются с острой критики действительности во имя некоторого абстрактного идеала. Направления этой критики, значение философов и литераторов хорошо показано энциклопедистами (26). Существо этого идеала (или социальной утопии) определяется не его содержательной стороной, но тем обстоятельством, что он принимается общественным сознанием как аксиома. Данный процесс отражен в литературе о Французской революции, но прослеживается во всех крупных революциях вплоть до настоящего времени. О самостоятельной роли идеологии и идеологов (литераторов) в подготовке революционного кризиса писал еще А. Токвиль в книге «Старый порядок и революция» (27). В дальнейшем, консервативные критики революции обратили внимание на такое необычное явление, как «философизм» общественной мысли – резкий рост интереса к абстрактным философским принципам, которые усваивались в крайне упрощенной форме.
Идеологические модели общественного устройства. Разные идеологии предлагают свои модели решения проблемы отчуждения: социализм – революционный миф классовой солидарности; национализм – миф возврата к истокам (язык, почва, реальные или вымышленные исторические воспоминания). Обе идеологии обладают, как показала история XX в., очень большой убедительностью для примитивного массового сознания, особенно будучи слиты в одно целое (национальный социализм). В поисках массовой социальной базы наибольшим успехом пользуются именно те идеологии, которые предлагают простые, понятные и быстрые решения сложных социальных проблем. Эти социальные тенденции объясняют, во-первых, общий рост значения социальной теории и идеологий начиная с XIX в.; во-вторых, плюрализм идеологий и социальных прогнозов (либеральные, социалистические, технократические, консервативные), которые отражают интересы определенной части социального спектра; наконец, в-третьих, утопический характер большинства социальных идеалов. Некоторые из них – отброшены и забыты, другие дошли до современности в модифицированной форме. Они нашли себя в стремящихся представлять все общество политических и социальных движениях и программах с их идеями и идеологиями (либерализма, консерватизма и социализма, национализма).
Мощным фактором для развития идеологий в современном смысле слова явилась не только Французская революция, но и реакция на нее различных сил, в том числе в ходе социальных кризисов последующего времени. Поскольку, во-первых, исторический опыт позволил мыслителям создавать учения, осмысливающие конфликтные ситуации (например, либерализм), показав опасность реализации примитивного участия масс в социальных конфликтах. Политические мыслители ряда стран (Германии) работают затем активно над поиском мирной реформационной альтернативы, что ведет к появлению политической теории классической немецкой философии. Во-вторых, независимо создавался потенциал массового недовольства, и появились идеи использовать массы как политическую силу. Использование этого потенциала привело к появлению первых партий и программ. Их идеологический компонент был направлен на политические цели. В связи с этим к концу XIX в. появляется особая тема внесения идеологий в массы особыми партийными инструкторами для достижения непосредственных быстрых и радикальных изменений (движение народников в крестьянство, кружки и создание рабочих организаций).
Об устойчивости основных идеологических стереотипов говорит факт их повторяемости. В качестве аргумента против известного тезиса о конце идеологий можно привести следующий: современные споры о Французской революции, имевшие место в ходе ее 200-летнего юбилея.
Целесообразно сконструировать идеальные типы основных идеологий. Согласно моделям предлагаемого ими общественного устройства можно выделить несколько типов. Учение в составе модели идеологии представляется нам системообразующей компонентой (наряду с массовой базой и связью ее с вождями). В свою очередь учения мы различаем по признаку, имеющему прямое отношение к реальности, какой ее видит и объясняет данное учение, к способам, какие вожди и теоретики предлагают для достижения цели и что немаловажно – к системе отношений между приверженцами данной идеологии. Таким определяющим признаком мы будем считать отношение к праву. По отношению к праву все идеологии четко выражают свою позицию и потому само это отношение к праву служит индикатором для их анализа. Данный критерий представляется важным и в то же время недостаточно разработанным. Разумеется, внутри анализа каждой из идеологий (а каждая значительная идеология имеет, как известно, громадную литературу) обязательно возникает вопрос об отношении к праву в той или иной степени. Это объясняется тем, что отношение к позитивному праву как раз и выражает идеологическую позицию в отношении существующих структур и институтов общества. Это отношение может быть даже сведено к лозунгу (новое «пролетарское право»; «не имеете права», «борьба за право», «в борьбе обретешь ты право свое», «правое дело» и проч.). Внутри учения вопрос о праве анализируется вождями, воспринимается приверженцами и реализуется в практике движения (даже когда речь идет об отрицании права вообще или конкретного права, нравственных нормах). Но мы говорим не об анализе правовой позиции конкретной идеологии. В данном случае достаточно выдвинуть такой критерий, как классификационный признак.
При таком подходе мы можем сгруппировать весьма разнообразные по ряду параметров идеологии по этому решающему признаку в три группы. К первой категории относятся идеологии, высшей ценностью которых является отстаивание прав личности; ко второй – идеологии, считающие возможным теоретический отказ от права или нарушение прав личности во имя достижения каких-либо иных общественных ценностей. Соответственно провозглашается некоторая высшая цель, для достижения которой права личности или отдельных групп полностью игнорируются (или приобретают несущественный характер). Наконец, существует третья модификация данной ситуации – она характеризуется теоретическим признанием и даже декларированием ценности права, однако отказом от него в повседневной практике путем перенесения этого правового идеала в будущее, манипулирование административными рычагами в условиях переходных периодов (идеал верховенства права заменяется идеалом диктатуры закона). Данная ситуация определена нами на материале конституционализма – как реальный, номинальный и мнимый конституционализм.
Особый вариант представляет собой явление переходных обществ. Это связано с тем, что правовое государство, гражданское общество уже выступают в качестве общепризнанной ценности, с ними связывается представление о стабильных демократиях с их высоким уровнем развития. Этот высокий уровень делает их привлекательными для массового сознания стран догоняющего развития. И поскольку в имеющихся представлениях этот высокий уровень как раз и связан с демократическими достижениями, то правовая направленность охотно декларируется многими режимами. В то же время в реальном развитии, требующем жестких административных мер (для ускорения желательных изменений), происходит некоторая подмена понятия права (в широком смысле, включающем естественное право и основанное на нем правосознание общества) понятием закона (т. е. фактически позитивного, существующего реально комплекса правовых норм, фиксированных в законодательстве, которые не обязательно соответствуют демократическому идеалу), возникают «подзаконные акты», расширяется сфера «усмотрения» администрации или возникает такое противоречивое, но чрезвычайно распространенное понятие, как «телефонное право». Это отражает элемент неустойчивости, мнимости, который возникает при переходе от номинального права к реальному, но включает противоречия и внутреннюю конфликтность, ведущую к появлению некоторых переходных, гибридных и смешанных форм (28). Все эти трактовки права и правовых систем, которые мы определили как реальные, номинальные и мнимые, связаны с функционированием в обществе различных политико-правовых идеологий – демократических, тоталитарных и авторитарных. Такие понятия, как «правовой нигилизм», возрождение естественного права в теории, конфликт естественного и позитивного права, вопрос о «метаправе», соотношение правовых представлений обычного права и писаного права находят свое выражение и в идеологиях, иногда в очень причудливых формах.
Общество нового и новейшего времени представляет картину расколотого зеркала, отдельные фрагменты которого отражают только одну сторону социальной реальности. Этот раскол, начало которого связано, как известно, с Французской революцией и становлением демократии, а затем и другими крупнейшими революциями XX в., нашел выражение в классических идеологиях, предлагавших свой способ решения конфликта (29). Основные идеологии в их классической форме представляют целостные модели общественного переустройства. Далее мы последовательно рассмотрим их по таким параметрам, как отношение к революционным социальным изменениям; концепция выхода из кризиса; идеальная модель общественного и политико-правового устройства, тенденции воздействия на общество. Наряду с классическими идеологиями, сформировавшимися в XIX в. (консерватизм, либерализм, социализм, анархизм и национализм), мы рассмотрим также идеологии (и идеологические мутации) новейшего времени, связанные с процессами глобализации, информатизации и модернизации, с одной стороны, и ретрадиционализации, с другой.
2. Консерватизм: сохранение действующего права во имя верности традиционным ценностям
Классический консерватизм может быть понят как реакция на рационализм Просвещения и связанную с ним практику радикального переустройства общества, в результате которой была разрушена традиционная система Старого порядка (абсолютизма, привилегий аристократии и духовенства). Характерными чертами данной идеологии в целом признаются полное неприятие революционных социальных изменений, ломки социального строя; историзм, отрицание рационалистической философии Просвещения, критика Французской революции и революционного сознания вообще, пессимизм. Во всяком случае, эти идеи оказались общими для всех крупнейших теоретиков консерватизма (30). Само понятие консерватизма было введено Шатобрианом, издававшим журнал – «Le Conservateur» (1818– 1820), что определило название всего течения. Его главная формула была предложена Э. Берком – «сохранение и улучшение». Поэтому консерватизм полностью отрицает лозунг Французской революции – «свобода, равенство, братство».
Идеология консерватизма несколько раз появлялась в Европе в разных обличиях как реакция на революционные потрясения и обосновывавшие их идеологии. Впервые и наиболее четко – как реакция на якобинскую диктатуру и террор в период реставрации начала XIX в., затем – как попытка преодолеть радикальное социалистическое решение социального вопроса к концу этого века, далее – как реакция на русскую революцию в межвоенной Европе, наконец, после Второй мировой войны – как обоснование отказа от марксистской советской модели переустройства мира. Сейчас консерватизм вновь актуализировался в условиях глобализации, причем сочетается с национализмом и другими неоконсервативными доктринами (христианской демократии и проч.). Эта филиация идей позволяет говорить о консерватизме как особой модели общественного устройства, которая, при всем различии конкретных проявлений имеет постоянно одну цель – «сохранение и изменение» общества.
Первая фаза его датируется 1789–1848 гг. Консерватизм опирался на феодальную аристократию, церковь и связанные с государством социальные слои. Старомодный консерватизм отстаивал привилегии сословий, цехов и местные свободы. Исходя из романтической идеализации дореволюционных порядков, представления о допустимости социальных изменений лишь эволюционным путем, классические консерваторы (Э. Берк, Ф. Шатобриан, Ж.де Местр, Л. Бональд, Донозо Кортес, Ф.К. Савиньи и другие мыслители исторической школы права в Германии) выступали с критикой идей просветителей о разумности человеческой природы, возможности преобразования общества по плану, преодоления социального неравенства, установления общественного договора и Основные параметры классического консервативною мировоззрения могут быть четко представлены как антитеза основным принципам идеологии просветителей: консервативная мысль исторична (отрицание чисто рационального подхода к обществу в стиле Просвещения), конкретна (отрицание абстрактных логических формул рационалистической трактовки естественного права), иерархична (тезису о всевластии народа – народному суверенитету противопоставляется тезис о сословиях и монархическом принципе – монархическом суверенитете); религиозна (критика отступления от религии и разрушения церкви как важнейшего консолидирующего социального института); скептична в отношении модернизации и европеизации (как попытки перенести в неподготовленную социальную среду рациональные конструкции, выработанные чуждой социальной средой).
Какая модель общественного и правового устройства вытекает из этих идеологических постулатов? Как классический, так и современный консерватизм характеризуется, прежде всего, отрицанием возможности рационального объяснения и переустройства мира – идеи, центральной для всего Просвещения и деятелей Французской революции, а также всего последующего социализма. Консерваторами отвергается сама возможность научной социологической теории, способной открыть вечные и неизменные законы развития общества, которые могут быть познаны людьми и использованы для планомерных преобразований общества. Тем самым ставились под сомнение возможности науки об обществе – в виде рациональных формул просветителей, позитивизма, исторического материализма или современной социологии. Консервативная мысль действительно выявила слабое место построений Просвещения: представление о возможности отыскать в развитии общества законы, аналогичные законам, открытым естественными науками. Открытие таких законов представлялось достаточно простым делом и приводило к мысли о возможности целенаправленного изменения общества в соответствии с ними. Эта идея, сводившая общество к органическому феномену, оказывалась чрезвычайно опасной именно в силу своей упрощенности и механистичности. Ошибка просветителей и их последователей – радикальных идеологов различной направленности заключалась, как стало сейчас ясно, в простом перенесении научных методов, взятых из естественных наук (которые с их помощью добились в короткое время революционных достижений), в социальные отношения, где они не могли действовать адекватным образом. Просветители в социальных науках повторили путь средневековых алхимиков, которые верили, что с помощью знания алхимии они могут открыть философский камень, формулу золота или эликсир вечной жизни. Просветители подобным же образом полагали, что с помощью рациональных методов социального познания общество может достичь социальной гармонии – золотого века. Консерваторы показали, что открытие таких законов невозможно как в силу чрезвычайной сложности общества, так и в силу самой мыслительной свободы человека, способного творчески развивать общество и делать выводы из ошибок прошлого (именно эта идея положена в основу критики исторического материализма К. Поппером в его «Нищете историцизма») (31). Тот факт, что в обществе действуют некоторые тенденции и что они проявили себя достаточно четко в прошлом, вовсе не означает, что они будут столь же непреклонно действовать в настоящем и тем более в будущем. Если они открыты и даже сформулированы в виде научных обобщений, то это значит, что их можно если не отменить, то во всяком случае изменить, направив в другое русло. Таким образом, был нанесен удар по фатализму рационалистической философии и модификациям ее положений в социологических концепциях последующего времени. Общество вообще – не намеренно сконструированное, искусственное образование, основанное на заключении общественного договора, предусматривающего интересы и обязанности сторон, но исторически естественно сформировавшееся образование со всеми присущими ему противоречиями.
Идеальная модель общественного устройства – та, которая сложилась исторически и необходимые изменения в которой происходят эволюционным и стихийным путем. Из этого вытекает другой важнейший вывод: социальные отношения должны строиться не на основании абстрактных логических формул, но на основании конкретного исторического анализа ситуации. Под логическими конструкциями консерваторы понимают прежде всего выводы революционных идеологов – радикальную трактовку естественного права, общественного договора, народного суверенитета, но прежде всего – саму концепцию личности. В рамках консервативной мысли были фактически сформулированы начала новой антропологической концепции, в основу которой положена не рациональная модель человеческого поведения, а анализ человеческой природы в реальной исторической ситуации. Особенно важно то, что консерватизм оставляет открытым вопрос об изначальной природе человека, более того, смотрит на нее весьма скептически (что, в сущности, вытекает из религиозного представления о слабости и греховности человеческой природы). Если Руссо и другие Просветители (а за ними многочисленные адепты социализма и анархизма) противопоставляли совершенного человека и несовершенное общественное устройство, то консерваторы, прежде всего де Местр, напротив, подчеркивают изначальную зависимость человека (от природы, родителей, культурно-исторической среды), его агрессивность (присущую прежде всего дикарям, находящимся вне цивилизации), наконец, умеряющую и цивилизующую роль общества, таких его институтов, как государство, церковь, семья (что позднее было определено как «дрессирующая роль права» социологами школы Э. Дюркгейма).
В этом отношении наиболее характерна полемика с главным тезисом Ж.Ж. Руссо, заимствованным затем социалистическими и коммунистическими доктринами – «человек рожден быть свободным, но повсюду он в цепях» (32). Идеалу доброго дикаря и абстрактным философским формулам о свободе, равенстве и братстве, консерватизм противопоставил трезвый исторический и антропологический анализ. Этот анализ показывал, вопреки Руссо, что там, где человек живет и развивается вне общества, он оказывается несвободен, слаб и агрессивен. Необходимы поэтому сдерживающие оковы цивилизации – прежде всего религиозное чувство, вера, но также традиция, иерархия, власть.
Отсюда совершенно другая проекция решения вопроса о свободе: нельзя освободить человека извне более, чем он свободен внутри. Если предоставить внешнюю свободу бывшим рабам, это приведет не к социальной гармонии и справедливости, а к социальному хаосу, проявлению худших инстинктов толпы и, как следствие, установлению жестокой диктатуры. Опыт такой диктатуры, появившейся в результате стремления к свободе и разрушения общества, давала Французская революция, циклически приведшая к наполеоновской диктатуре, затем русская революция, закончившаяся установлением большевистской диктатуры, наконец, появление фашистских и иных авторитарных режимов, явившихся следствием растущего социального хаоса и попыткой преодолеть его. Во всех случаях консерватизм противопоставлял социальной катастрофе: власти толпы, фанатизму вождей и массовому террору – возврат к традиционным религиозным ценностям, умеренность и скептицизм в отношении модернизации. Все это заставило консерваторов выступить с системной критикой философии просветителей, а также политических выводов из нее – универсальных (абстрактных, философских) принципов рационализма, индивидуализма, либерализма, а также их конституционного выражения (33).
Важной особенностью консерватизма является исторический пессимизм, отсутствие веры в прогресс, скептическое отношение к модернизации. Эта идеология имеет, таким образом, ретроспективную ориентацию, ее идеал принадлежит прошлому, а не будущему.
В своей критике Французской революции англичанин Эдмунд Берк разработал некоторые основные положения консервативной мысли. Книга Берка «Размышления о революции во Франции» – не академический труд отстраненного наблюдателя, но страстный памфлет, написанный современником и убежденным противником революции. Книга вызвала острую ненависть во Франции (как явствует из газетных откликов на нее) и огромную популярность в Англии. Сторонники считали книгу замечательной, противники – объявляли автора сумасшедшим и сравнивали его с Дон-Кихотом. В прессе недоумевали, почему Берк, являвшийся ранее сторонником независимости Америки, стал противником революции во Франции. Сочинение Берка, утверждают современные комментаторы и исследователи его творчества, должно интерпретироваться скорее в контексте английской, чем французской политической традиции: оно имело определенный смысл для английского общества в период подготовки там юбилея Славной революции 1688 г. «Размышления» Берка были ответом тем радикальным деятелям партии Вигов, которые склонялись к поддержке революционной Франции (34). В то же время Берк не стал бы одним из основателей и виднейших представителей идеологии консерватизма, если бы его сочинение не выходило за рамки текущих политических споров в Великобритании. По существу он, внимательно наблюдая за развитием событий, поддерживая тесные контакты с французским духовенством, чиновниками и эмигрантами, изучая прессу, создал ту концепцию революции, элементы которой можно найти позднее у консервативных и либеральных мыслителей разных стран – от М. Унамуно и Н. Бердяева до А. Солженицына (35).
Прежде всего, революция выступает как цивилизационная катастрофа, разрушившая естественное или органическое развитие общества во имя абстрактной идеи. Даже безотносительно к содержанию этой идеи, коренной порок всякой революции заключается в том, что она жертвует вечными ценностями общества во имя простых решений, кажущихся привлекательными примитивному массовому сознанию. Однако простые модели – это ловушки, поскольку они отражают только одну сторону проблемы. Мечтательность Руссо плохо обернулась на практике. Если бы этот философ был жив, полагает Берк, он оказался бы шокирован практикой своих учеников. Простых конституций не может быть, а организованные на их основе правительства – фундаментально неэффективны. Лучше сохранять известную неопределенность ситуации, чем менять ее с помощью простых решений, которые игнорируют целые пласты социальной реальности.
В центре консервативной критики революционного сознания – механистическая концепция общества и вера в возможность его изменения с помощью рационального применения насилия. Фундаментальные институты общества, сложившиеся исторически, не должны быть разрушены ни при каких обстоятельствах: права собственности, положение и привилегии знати, роль духовенства, а главное – сложившаяся система нравственных устоев и ценностей. К числу негативных проявлений революции относятся – разрушение монастырей как культурных центров человечества (где культивировались традиции, хранились книги и т. д.), отмена существующего административного деления (отражающего традиционные исторические границы регионов) в пользу геометрического деления, которое, давая формальное равенство территориальным единицам и индивидам, закрепляет их фактическое неравенство (ибо неравны исходные условия формирования); дестабилизация экономической системы в результате непродуманных мер революционного правительства, ведущих к разорению землевладельцев, спекуляциям ценными бумагами и землей, появлению новой финансовой олигархии; неэффективность таких институтов, как система представительства, цензовые выборы и разделение властей, ведущее к росту произвола в каждой из них (законодательной, исполнительной и особенно судебной) по сравнению с монархией.
Проблема законодательной власти оказалась в центре внимания в связи с анализом революционного законодательства. Вопрос о том, в какой мере законы должны соответствовать принципам разума или естественного права, подробно обсуждавшийся просветителями, поставлен Берком в совершенно иной плоскости: какая социальная группа является законодателем и в какой степени она выражает национальные интересы. Если для теоретиков революции ответ на этот вопрос вытекал из принципов общей воли и народного суверенитета, т. е. решался на уровне идеологических абстракций, то Берк подходит к нему гораздо более прагматически, он анализирует состав конституирующей власти вполне в стиле современного социолога. Он констатировал, что в составе Конституционной ассамблеи преобладают не известные юристы, судьи и университетские профессора, а провинциальные адвокаты и клерки, которым революция открыла уникальную возможность достичь карьеры и богатства. Данный состав Конституанты не только не выражает народной воли, но, напротив, имеет вполне определенный корыстный интерес: он отнюдь не заинтересован в сохранении стабильности существующего строя, но, напротив, в его революционной дестабилизации. «Это было неизбежно; это было необходимо; это коренилось в природе вещей. Они должны примкнуть (если их способности не позволят им руководить) к любому проекту, который мог бы обеспечить им сомнительную конституцию (litigious constitution), способную открыть для них те бессчетные доходные предприятия, которые сопутствуют всем великим потрясениям и революциям в государстве и особенно всем великим и насильственным переменам собственности» (36).
Из этого анализа следовал вывод об обреченности революции, не способной достичь провозглашенных целей и пасть под бременем неразрешимых проблем. На руинах страны, писал он, процветает кучка людей, не способных (в силу своего происхождения, способностей и образования) представлять ее и управлять ею. Нелепая идея демократизации армии (слияния ее с народом) может привести к тому, что армия станет вершителем судеб народа, к военной диктатуре. Революция сменится своей противоположностью – тиранией. Данный процесс неизбежно завершится появлением человека типа Кромвеля, «недостатки которого искупались его достоинствами».
Во Франции консервативное мировоззрение выступило наиболее последовательно в эпоху Реставрации и было представлено прежде всего идеями Жозефа де Местра, Луи де Бональда и Шатобриана, по существу создавшими консерватизм как европейскую идеологию. Они дали философскую критику радикализма, показали неизбежность циклического характера революции, дали теоретическое и политическое обоснование контрреволюции и восстановления монархии.
Центральное место принадлежит здесь книге де Местра «Размышления о Франции» (1797), где он показывает, с одной стороны, спонтанность и непредсказуемость революционного процесса, с другой, констатирует его внутреннюю логику, не подвластную априорным рациональным схемам. Те, кто устанавливал республику во Франции, делали это отнюдь не путем реализации заранее составленного проекта. Напротив, они подчинялись мощному велению событий, превращавших их в игрушку революционной стихии. Более того, они не знали и не желали тех следствий революции, к которым были подведены роковым стечением обстоятельств и жертвами которых стали сами. Именно так возник режим террора, показавший внутреннюю несостоятельность основных принципов революции. Нельзя дать свободу нации, – полемизирует он с просветителями, – если она еще не выработала ее самостоятельно. Влияние людей не простирается за пределы существующих прав. Если разрушить эти правовые рамки, пусть несовершенные или поколебленные, нация теряет то, что имеет, не приобретая ничего взамен. Поэтому конституция не может быть создана абстрактным и сугубо рациональным путем. Ошибка философов-просветителей в том, что они полагали, будто ассамблея может конституировать нацию, а конституция, как собрание фундаментальных законов нации, может быть сконструирована и переделана механическим способом, подобно ремесленным изделиям. Он высмеивает мнение, будто можно просто выучиться ремеслу изготовления конституций (mеtier de constituant) и делать правительства на заказ. Восстановление монархии выступает как объективный процесс тех изменений, которые характеризовали различные фазы революционного цикла.
Сила де Местра – в способности предвидеть и даже предсказать события Реставрации. Революция привела к разрушению человеческого рода, доказав неизбежность войн и кровопролитий («la destruction violente de l’esp?ce humaine»). Столь же спонтанным процессом как революция оказывается контрреволюция, поскольку реакция должна соответствовать силе и продолжительности акции. В целом Франция и революция стали инструментами Провидения: преследуя католических священников и обеспечив их массовую эмиграцию в протестантские страны, революция способствовала распространению католицизма (37).
Ядром политической теории консерваторов является обоснование традиционной социальной иерархии, власти и веры. Для того чтобы обосновать этот тезис в постреволюционную эпоху, недостаточно было просто отвергнуть аргументы противников. Необходимо было найти такое оригинальное теоретическое обоснование консервативных ценностей, которое стало бы оружием как против якобинцев, так и против последующих революционных идеологий – социализма и коммунизма, даже – радикального либерализма. Эта теоретическая проблема была успешно решена с помощью имманентной критики теории общественного договора: существовал ли где-либо в истории такой договор; возможно ли провести разделение между обществом и государством в период их возникновения; каким образом доктрина народного суверенитета может быть реализована на практике? Эти вопросы де Местр поставил в 1794–1795 гг. в труде с характерным названием – «De la Souverainetе du people. Un anti-contrat social». Именно консерваторы убедительно раскрыли противоречие между теорией непосредственной демократии (как единственно возможной концепции реализации народного суверенитета) и концепцией представительной демократии – делегирования воли нации ее представителям. Эта концепция делегированного выражения воли нации ее представителями фактически исключает народный суверенитет и ведет к обособлению и правовому закреплению особой касты народных избранников. Так, по существу, воспроизводится сам иерархический принцип. Однако если народ (вопреки Руссо) может быть представлен кем-либо кроме самого себя, то почему этим представителем не должен быть монарх? Наиболее естественным сувереном, как показывает история, является не народ, а монарх. Монархия – это «централизованная аристократия» (38).
Другой представитель консервативного направления – Луи де Бональд – пошел еще дальше в критике народного представительства, считая, что именно оно узурпировало подлинную народную волю. Анатомия этого процесса определяется как фактический государственный переворот, в результате которого третье сословие, противопоставив себя двум другим (духовенству и дворянству) в Конституционной ассамблее, фактически узурпировало волю нации. Он дает интересную интерпретацию соотношения общей и частной воли. Общая воля представлена публичной властью – до революции властью монарха, имевшей публичный характер. С уничтожением этой публичной власти исчезла единая сила, цементирующая общество. В результате этого переворота национальная воля оказалась подмененной интересами сословий, два из которых отстаивали возврат к общей воле, в то время как одно (третье сословие) – стремилось захватить власть себе и использовать ее в своих частных интересах. Политический переворот открыл путь к переделу власти и собственности, большая часть которой находилась в руках государства или отстраненных привилегированных сословий. Необходимо повернуть ситуацию вспять. Бог (а не народ) является первоисточником власти. Социальный порядок основан на иерархии таких институтов, как семья, государство и церковь. В конституированном обществе общая воля представлена сувереном. Монархия выступает единственным легитимным правлением (39).
Важным выводом учения консерваторов, имевшим практическое значение, стала концепция легитимности и легитимного правления. Она вытекает из всей традиции католической политической мысли, восходящей к римскому праву, и имеет большое значение для анализа политических и конституционных кризисов в современной политологии. Политические законы должны являться следствием фундаментальных законов, отношений, вытекающих из природы общества. В конституированном обществе подобные отношения являются необходимыми: они предполагают иерархию и распределение власти, ее легитимацию. Задача законодателя в том, чтобы найти их адекватное выражение, но не создавать их заново или переделывать. Однако именно это произошло в ходе революции. Контрреволюция, следовательно, объективно призвана к восстановлению попранных фундаментальных законов и основанного на них легитимного правления.
Если де Местр и Бональд выступают последовательными противниками либеральной философии, то Шатобриан очень близко подходит к ней. Ему принадлежит заслуга теоретического обоснования той политической и конституционной системы, которая реализовалась во Франции в период Реставрации. Как и для Берка, революция для него – объективный процесс, а не результат исторической случайности, например, масонского заговора (как считали многие в эмигрантских кругах). На страницах «Консерватора», а затем в исторических этюдах Шатобриан, как позднее Токвиль, утверждал: революция в значительной степени стала порождением монархии и поэтому на ней лежит отпечаток авторитаризма и централизма. Главная общественная ценность – не древность институтов, но свобода, которой в истории угрожают два вида абсолютизма – абсолютизм старого порядка и абсолютизм национального суверенитета. Отрицая первый (священное право монархов), Шатобриан (подобно Гизо и Руайе-Коллару) выступал против полного возвращения к дореволюционным порядкам, отрицая второй – против утопических принципов революции. Между двумя традиционными видами суверенитета – монарха и народа – он усматривает третий – суверенитет мнения – силу общественности (пресса, брошюры, дискуссии). Общественное мнение – «социальное электричество» – признается реальной силой: через сформированное на выборах парламентское большинство оно влияет на назначение правительства. Данный новый фактор социального развития позволяет реализовать консервативную модель политического устройства, которая является оптимальной с точки зрения эволюции и просвещения. Шатобриан неоднократно пытался обосновать эту модель, видя в ней компромисс между революционным разрывом и преемственностью, деспотизмом и свободой, монархией и республикой. В своих мемуарах он подробно останавливается на всех попытках такого рода в течение многих революций, свидетелем и участником которых он был – от штурма Бастилии до июльской революции 1830 г.
Некоторые выводы Шатобриана выглядят очень современно и заслуживают быть приведенными. Прежде всего, революции для него – это феномен социальной психологии эпохи, который должен поэтому получить психологическое осмысление. У времени – две власти: одной рукой оно рушит, другой созидает. Это выражается в резких колебаниях общественных настроений, быстрой смене исторических эпох. Революция во Франции предстает в трех частях, между которыми нет ничего общего – Республика, Империя, Реставрация. Каждый из этих режимов радикально отрицал предыдущий и имел свое особое основание: первый основывался на равенстве, второй – на силе, третий – на свободе. Смена этих принципов в общественном мнении выражает цикличность революционного процесса.
Шатобриана интересует феномен возникновения «плебейской тирании» из революции, который, как он считал, едва ли может повториться в истории. Вольности и свободы, провозглашенные революцией в 1789 г., «эти немыслимые и безнравственные свободы, воцаряющиеся, когда порядок уже начал рушиться, но анархия еще не наступила», были затем постепенно упразднены «по воле народа». Республиканский режим представлял собой парадоксальный «физический порядок, рожденный нравственным беспорядком, единство, созданное правлением толпы, эшафот, заменивший закон и действующий во имя человечества». Кульминация революции, «плебейская тирания» – это «тирания плодовитая и полная надежд, но гораздо более страшная, чем дряхлый деспотизм древней королевской власти: ибо народ, ставший государем, вездесущ, и если он превращается в тирана, то вездесущ и этот тиран – всемирный Тиберий со всемирной властью».
Периоды революционных выступлений против власти оказываются кратковременными и быстро уступают место социальной усталости и покою, когда успехи новой власти примиряют с ней. Эта смена настроений едва ли управляется какими-либо рациональными или логическими доводами, но скорее – темными разрушительными инстинктами масс, мифами и ловкостью демагогов. Так, народ никогда бы не ворвался в Бастилию, если бы ее ворота не отперли, сопротивления восстанию никто не оказывал, а возникшие позднее картины штурма – не более чем миф. Успех у народа может иметь лишь тот, кто потакает его страстям. Например, Мирабо: «Казалось, природа вылепила его голову для трона или для виселицы, выточила его руки, чтобы душить народы или похищать женщин. Когда он встряхивал гривой, глядя на толпу, он останавливал ее, когда он поднимал лапу и показывал когти, чернь бежала в ярости. Я видел его на трибуне во время одного из заседаний, среди ужасающего разброда: мрачный, безобразный, недвижный, он был похож на бесстрастный, бесформенно клубящийся хаос Мильтона». Или Дантон – «помесь жандарма с прокурором». Революция, таким образом, скорее медицинская проблема, а революционеры – несостоявшиеся пациенты психиатрических лечебниц: «Душевные и телесные недуги сыграли в наших смутах большую роль: болезненное самолюбие породило пылких революционеров».
Смена республиканского режима имперским («военной деспотией») вполне закономерна, поскольку представляет собой переход одного вида деспотии (коллективистского) в другой (индивидуальную). Этим объясняется и быстрая идеологическая мимикрия бывших Брутов и Сцевол в полицейский режим империи. Он говорит о «метаморфозах», происходивших с людьми, которые «были бы отвратительны, не объясняйся они в большей мере гибкостью французского ума». Существует лишь «горстка возвышенных душ, чье постоянство смущает тех, кто не устоял» (он был среди них). Он мог наблюдать как «день ото дня совершалось превращение сторонников республики в сторонников империи, поклонников тирании всех в поборников деспотизма одного человека». То, что объединяет два этапа французской революции (в отличие от американской), – это отсутствие свободы, без которой нельзя создать прочный гражданский порядок. «Республика Вашингтона живет; империя Наполеона рухнула. Вашингтон и Бонапарт вышли из лона демократии: оба дети свободы, но первый остался ей верен, второй же ее предал» (40).
С этих позиций он комментировал, в частности, эволюцию бонапартистского режима, сложная природа которого (дезориентировавшая многих идеологов), определялась именно тем, что он был первой попыткой примирить разные идеологические начала на прагматической основе. Завершением этого процесса представал возврат к легитимной монархии, выступавшей как единственный способ обеспечения политической стабильности в расколотом обществе постреволюционного периода (41).
Шатобриан стал идеологом Реставрации во имя свободы личности. Его главный труд «Монархия согласно Хартии» – «катехизис конституционного правления», где обосновывался тезис о короле, «который царствует, но не управляет». Данная формула представляется ему оптимальной как сочетание сохранения и изменения, свободы и ответственности, народной и монархической легитимности. Но именно в этом и состоит суть политической доктрины консерватизма. Нестабильность Реставрации во Франции объясняется не слабостью теоретических принципов консерватизма, но отступлениями от них, приведшими к крушению легитимной монархии. Смысл новой июльской монархии очень важен: «принцип королевского суверенитета уступил место принципу суверенитета народного, наследственная монархия – монархии выборной». Это был переворот с точки зрения принципов легитимизма, поскольку новая (орлеанская) династия, являясь нелегитимной, была вынуждена опираться не на право, а на силу. Однако возможна последующая легитимация: «каждый свершившийся факт порождает новое право, которое побеждает право старое; с каждым часом новая монархия делается все законнее».
Важнейший вклад Шатобриана в политическую теорию консерватизма – обоснование концепции легитимной монархии. Данная система, полагал он, позволяет найти середину между анархией и деспотизмом и обеспечивает свободу личности от различных посягательств на нее. Это достигается сочетанием в рамках единой системы трех принципов – республиканского, монархического и аристократического. Их гармоническое взаимодействие возможно лишь в случае восстановления династии и ее божественной легитимности. В результате возникает формула так называемой смешанной монархии, которая выражает политический компромисс периода Реставрации. Этот компромисс фиксируется в документе принципиальной важности – Хартии 1814 г. Данный конституционный акт, по определению Шатобриана, – «не экзотическое растение, случайное порождение момента: это результат наших настоящих нравов, это договор о мире, подписанный между двумя партиями, которые разделяли Францию» (42). Хартию Бурбонов – октроированную конституцию Реставрации – можно признать фундаментальной основой всего последующего монархического конституционализма в Европе. Однако сознательная неопределенность этого документа в вопросах разделения властей и определения прерогатив монархической власти открывала возможность противоположных трактовок – как в пользу парламентаризма, так и монархического принципа. В большинстве государств Центральной и Восточной Европы, а также ряде государств Азии положения французской Хартии трактовались в пользу монархического принципа и служили правовой легитимации режима мнимого конституционализма (43). В самой Франции интерпретация положений Хартии была далека от единства. Так, либерал Ф. Гизо отвергал идею ответственного министерства и отстаивал монархический принцип, обосновывая прерогативы монарха на определение политического курса и назначение правительства (44). Консерватор Шатобриан, напротив, дает вполне либеральную трактовку Хартии. В «Политических размышлениях» ее положения интерпретируются в пользу смешанной формы правления (как единства короля, аристократии и народа). Эта интерпретация близка позиции Аристотеля и Монтескье.
Однако в главном политическом труде – «Монархия согласно Хартии» (1816) Шатобриан кладет в основу интерпретации французской политической системы концепцию английской парламентской монархии. Данный «конституционный катехизис» был направлен против курса консервативной реставрации, проводившегося всесильным фаворитом Людовика XVIII – Деказом (45). Значение данного труда заключается в том, что в нем впервые с необычной ясностью и четкостью сформулированы принципы парламентского правления, которые не получили тогда адекватного теоретического освещения в самой Англии. Более того, некоторые исследователи полагают, что в данный период не существовало самого «парламентского правления», а формулировка его принципов стала новым словом для всех конституционных монархий.
Эта «англомания» Шатобриана, в которой его обвиняли оппоненты, отнюдь не была случайной, но вытекала из всей логики консервативного (или либерально- консервативного) образа мышления (и именно поэтому была свойственна многим последующим его представителям). Подобно Монтескье и Токвилю, Шатобриан видел в английской модели пример эволюционного и бесконфликтного разрешения социальных и политических противоречий. Если национальный суверенитет теоретически не может быть представлен, то он может получить символическое выражение в институте легитимной монархии, где король «царствует, но не управляет». Так рецепция классической английской формулы позволяла разрешить доктринальное противоречие принципа народного суверенитета и представительства. Для создания подобной сложной, тонкой и динамичной саморегулирующейся системы необходимо достичь единства трех сил – общественного мнения, элит и королевской прерогативы. Они представлены институционально парламентом, правительством и монархом. Две палаты парламента (палата депутатов и палата пэров) выражают баланс демократического и аристократического начал. Верхняя палата необходима не для защиты сословных прав аристократии, а для защиты свободы в широком смысле. Отношения парламента и правительства определяются формулой об ответственном министерстве. Трактовка данной ответственности была достаточно широкой: она включала концепцию единства кабинета министров (во главе с премьер- министром, отставка которого означает смену правительства); новый механизм назначения и отставки правительства (путем парламентского голосования о доверии); принятие палатой бюджета (который формируется и вносится правительством); право палаты обращаться к министрам с запросами и необходимость для последних отвечать на них; наконец, необходимость (вопреки ортодоксальной трактовке разделения властей) для министров быть членами палат с тем, чтобы иметь возможность отстаивать свое мнение. Наконец, монархический компонент в этой системе получает исключительно символическое или идеологическое содержание. Фактическая безответственность монарха (за действия которого отвечают министры) компенсируется абсолютностью его символической власти. В данном типе монархии король «более абсолютен, чем его предки, более могуществен, чем султан в Константинополе или Людовик XIV в Версале» (46). Эта мысль (о формальном всесилии королевской власти в Англии) традиционно рассматривалась как способ гарантии свободы и обосновывалась еще де Лольмом (47). Движущей силой всей системы является общественное мнение, которое обеспечивается свободой прессы – этим «социальным электричеством», не дающим системе перестать функционировать. «В представительном правлении существует два суда – палаты, где рассматриваются особые интересы нации и сама нация, которая судит за пределами палат». Это была фактически концепция парламентской монархии, хотя Шатобриан не использует этого термина, заменяя его «представительным правлением». Данная модель политической системы, согласно Шатобриану, более эффективна и менее сложна, чем монархия Старого порядка, но у нее есть один недостаток: она является более тонкой и заслуживает бережного обращения – «насилие разобьет ее». Именно это последнее обстоятельство, однако, мешало реализации политического компромисса. Ситуация, в которой были написаны эти слова, определяется в современной политологии как режим переходного периода, для которого (как и для Веймарской республики) был характерен непримиримый конфликт крайних течений – по терминологии Шатобриана «белых якобинцев» (роялистов) и «черных якобинцев» (республиканцев) (48).
Концепция легитимного правления подразумевала, следовательно, и его антитезу – правления нелегитимного, узурпации власти, тирании. Нарушая фундаментальные естественные законы, революционные режимы (как якобинский или бонапартистский) – становились нелегитимными, а следовательно, их свержение – вполне оправданным с моральной и правовой точки зрения. Лейтмотивом консервативной идеологической модели в условиях переходных периодов постреволюционной стабилизации становилась теория антиреволюционной реакции и обоснование необходимости контрреволюционной диктатуры. Этот вывод имеет универсальное значение для всей консервативной мысли от таких ее ранних представителей, как де Местр и Донозо Кортес до теоретиков итальянского фашизма (Дж. Джентиле) и, особенно, Карла Шмитта в Веймарской Германии.
Для достижения своей цели контрреволюция может опираться на насилие и противостоять деструктивным тенденциям извне. Вот какие рекомендации сделал де Местр российскому правительству в своих «Петербургских вечерах», рассматривая самодержавие как последний оплот против европейской революции: отказаться от идеи радикальных социальных реформ (отмены крепостного права); поддерживать правящий слой и ограничить социальную мобильность, способную изменить его качественную природу; установить контроль над наукой и торговлей; предотвратить проникновение в страну деструктивных западных доктрин и иностранцев; способствовать распространению веры (имелись в виду католическая вера и представительство иезуитов). Это идеал закрытого общества, лишенного обмена информацией с внешней средой, жестко иерархизированного и скрепленного самодержавной властью. Он включает в себя те основные элементы, которые присутствовали как в европейской, так и в русской консервативной мысли (например, Н.М. Карамзина). Речь идет, однако, не об идеальной модели общественного устройства, а скорее о чрезвычайных мерах для предотвращения всемирного социального хаоса. Главная опасность при этом прозорливо усматривается в соединении спонтанного и массового народного движения с деятельностью идеологов экстремистской революционной направленности. Де Местр выражает эту тенденцию образом «Пугачева с университетским дипломом», в котором некоторые исследователи усматривают предсказание Ленина. Эти принципы, являвшиеся идеологической основой Священного Союза и европейской реакции от Петербурга до Лиссабона, важны как определенная программа выхода из социального кризиса путем усиления консервативных и авторитарных методов управления (49).
Сопоставление стран, где революции уже произошли (как Великобритания, США и особенно Франция), и тех, где они еще не имели места, но сохранялась угроза их возникновения (Испания, Восточная Европа и Россия), оказалось важным конструктивным элементом, разработанным консервативной мыслью последующего периода. Она включает в себя три компонента, намеченные де Местром, – иррационализм (отрицание веры в науку как созидательную силу); сознательное обращение к стихийным проявлениям человеческой природы (интуитивному, бессознательному, тайному); наконец, апология воли и сверхчеловеческого во имя преодоления рациональной критики. Суммировав эти наблюдения, можно констатировать определенную преемственность консерватизма и идеологии фашизма. Как отметил И. Берлин в эссе о де Местре, «что-то сближает его с параноидальным миром современного фашизма», а некоторые выводы этого мыслителя заставляют признать его «замечательным и ужасным пророком нашего времени» (50).
Теория антиреволюционной реакции была доведена до предела испанцем Хуаном Донозо Кортесом (1809–1853). Эволюция его взглядов представляет особый интерес, поскольку они служат связующим звеном между классическим консерватизмом и авторитарными доктринами XX в. (в частности, нацистской Германии и франкистской Испании). Начавший как либерал, он утратил затем веру в человеческий разум и выдвинул, под влиянием революции 1848 г., религиозно- моральную теорию чрезвычайного положения и диктатуры, стремясь найти рациональную легитимацию монархической власти.
Уже в лекциях 1836–1837 гг. Х. Донозо Кортес стремится преодолеть разрыв разума (Inteligencia) и свободы (Libertad), дуализм которых – неотъемлемая основа нормального общества. Установление гармонических отношений общества и государства предполагает необходимость определения границ вмешательства последнего в права индивида. Государство не может разрушать неотъемлемые права и свободы индивида, но лишь охранять их. С позиций умеренного либерализма (близкого философии Гегеля, Фихте и Шеллинга) предложена оригинальная классификация политических режимов в соответствии с тенденциями развития отношений общества и личности в них: когда общество поглощает личность (как это имеет место на Востоке, где основу правления составляет пассивное послушание и вера); когда личность поглощает общество (греческий и римский мир до установления империи, где в основу положено развитие человеческой индивидуальности и свободы); или, наконец, когда общество и личность сосуществуют в постоянной гармонии (основой служит единство закона индивида и закона объединения). В теории нового времени первая модель выражена Руссо с его доктриной народного суверенитета; вторая – Гоббсом с доктриной монархического суверенитета. Обе они представляют две неприемлемые крайности. Значение XIX в. усматривается в синтезе этих двух теорий во имя прогресса. Теория Руссо, который назван «страшным воплощением народа», определяется как «военная машина, послужившая человечеству для того, чтобы разрушить создание двенадцати веков». Теория общественного договора Руссо – «исторически фальшива и логически несостоятельна» (una teoria historicamente falsa y logicamente insostenible). В сущности, указывает он одним из первых, «Народный суверенитет и священное право королей, деспотизм и демократия – это одно и то же» (51). Народ, как и короли, стремится к провозглашению безраздельной власти – суверенитета в его подлинном смысле. Поэтому эти две формы власти (демократия и тирания) легко переходят одна в другую. Они, в сущности, не противоречат друг другу, поскольку сердцевину обоих составляет неограниченная власть.
Направления этой критики характерны для умеренного испанского либерализма и консерватизма: теория народного суверенитета атеистична (ибо передает безраздельную власть обществу, а не Богу), она ведет поэтому к разрушению общества; подразумевает принудительное равенство обязанностей между неравными по природе людьми, а потому ее результатом могут быть лишь рабство и тирания. Между лозунгами народного суверенитета и священного права пролегают моря крови. Оба они принадлежат истории и должны быть заменены третьим лозунгом – суверенитетом разума и справедливости (soberania de la intelihencia y de la justicia). Первые два лозунга ведут не к свободе, а к рабству, не к прогрессу, а к реакции, выражают не человечество, а партии. Сходные аргументы приводили представители умеренного либерализма Восточной Европы, в том числе – России. Для философии истории ключевыми являются понятия человека, общества и правительства. Выдвигается идеал представительного правления, обеспечивающего такое взаимодействие этих параметров, которое ведет к защите прав личности и реализации ее гармоничных отношений с обществом (т. е. реализации третьей конструкции). На этой (либеральной) фазе Кортес довольно последовательно критиковал консерваторов, в частности Бональда, за идеал теократического государства, предрекая, что в случае его реализации религиозная власть подчинит себе светскую и возникнет одна из форм восточного государства – пантеистическая теократия (наподобие Индии) или теистическая (которую в истории представляли евреи, персы, китайцы, татары и арабы). Он говорит об идеальном государстве Платона примерно то же, что могли бы сказать мы, имея опыт советской идеократии. Однако уже в это время идеи гуманизма, свободы и равенства выводятся из долга – отношения человека к Богу. Революция 1848 г. и личная жизненная драма окончательно сделали Кортеса полным легитимистом, монархистом и клерикалом. В новейшее время Кортес стал популярен благодаря К. Шмитту, которого интересовали именно эти его идеи. Этим объясняется и его популярность в Испании времен Франко. Для Шмитта важнейшим достижением берлинского пребывания Кортеса (1849) было то, что он изменил свое мнение о способности России быть бастионом европейского консерватизма. После этого оставалось одно спасение – диктатура. Обращение к диктатуре, вытекавшее из римских традиций и децизионизма, было, однако, внешним элементом в его системе консервативных идей. Но оно стало отправной точкой для концепции диктатуры и чрезвычайного положения самого Шмитта (52).
В Германии критика рационалистических теорий естественного права и общественного договора начинается с работ Карла Людвига Хеллера. Важными направлениями консервативной мысли становятся затем романтика и конституционный консерватизм. Консервативная политическая романтика (Новалис, А. Мюллер) стремилась вывести государство и религию из некоего органического единства. В сходном направлении выступала историческая школа права Фридриха Карла фон Савиньи, выводившая право из народного духа (53). В дальнейшем конституционные идеи Ф.Ю. Шталя способствовали четкой формулировке монархического принципа (54). Идеи Лоренца фон Штейна в области социальной проблематики обогатили консерватизм в этом направлении. Признавая существование классового конфликта в обществе, последний считал возможным разрешить его путем государственного регулирования и административных реформ (55). Консервативные германские юристы обосновывали теорию государства как юридического лица, наделяя его волей и целью в праве (56). Метафизическая и авторитарная трактовка государственной воли являлась квази-официальным обоснованием имперской государственности, централизма власти, роли монархического принципа (57). В Веймарской Германии, по мере разворачивания острого политического кризиса, консервативная идеология получила выражение в новой интерпретации политической романтики.