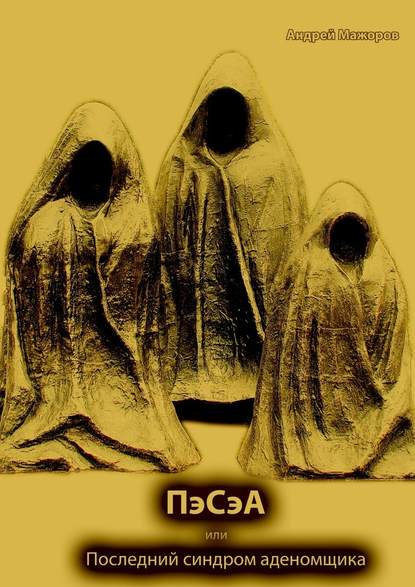По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
ПэСэА, или Последний синдром аденомщика. Драма в 5 действиях с прологом и эпилогом
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Ну, а где, по-твоему?
– Н-да… Тогда я что-то не понял с суточными…
– Сидят, планы чертят. Стратеги. А ты бегай, как дурак, с фонарем среди бела дня. Людей смеши.
– Главное, отгула потом не допросишься. Не говоря что премии.
– Ориентировка тоже дурацкая. Таких, как этот Кузнецов, – бездна. (Кивает на зал.) Вон, сидят. Хихикают.
– Ладно, давайте сначала. Дома его нет?
– И телефон не отвечает.
– На даче?
– Там крапива одна. (Показывает.) Вон, руки пожег по локти. (Виновато.) Смородина у них сладкая…
– Ну, я не знаю тогда… У любовницы были?
– Нет у него никакой любовницы. Одни мечты.
– Какой-то идиот, прости, Господи…
– Я даже на бывшей работе справлялся.
– И что?
– Не приведи Бог, говорят, снова его увидеть.
– Господа, но если следов нет здесь и сейчас, они могут быть только там и тогда.
– Логично.
– Придется восстанавливать цепь событий. Что-нибудь, да всплывет.
– В прошлое лететь, что ли?
– Хотя бы на год назад.
– Сметой не предусмотрено. Бубну выбьют.
– Дня на три, больше разговоров…
– Ты еще титр по экрану пусти, как в американском сериале: «a year earlier».
– Да пожалуйста. (Взмахивает рукавом балахона и соответствующая надпись появляется на занавесе.)
– Ну, допустим. А как вся эта байда начиналась, кто помнит?
– Кажется, была пятница. Верняк, пятница! Мы после работы к Лициске собирались…
– А место действия?
– Ну, как же – онкологический диспансер… Где же еще. Второй этаж, кабинет 231.
– Очередь на прием к урологу.
– Точно, точно… Припоминаю. Ну, так что? Поехали?
Свет гаснет, балахоны исчезают. Поднимается занавес.
Действие первое
На сцене – фрагмент коридора перед смотровым кабинетом. На двери висит табличка – «Уролог. Доктор медицинских наук М. А. Задорнов». Над дверью – круглые часы и сигнальный плафон для вызова больных. Сидя на железных стульях, приема ожидают четверо мужчин. Они подавленно молчат. Б у д е т е, лохматый субъект в круглых очках, уткнулся в газету. В ногах у него – целлофановый пакет. Л я к и н, коротко стриженный, в футболке с надписью «Ненавижу работу», грызет ноготь. В ногах у него стоит спортивная сумка с привязанной георгиевской ленточкой. К у з н е ц о в, одетый в обыкновенную рубашку и джинсы, сидит со скрещенными на груди руками и делает вид, что дремлет. Только старик П а н к р а т о в, увешанный медалями и орденами, беспокойно крутится на стуле, поглядывая на соседей. Он вздыхает, покашливает, что-то невнятно бормочет. Неожиданно начинает ощупывать сетчатую поверхность стула у себя между ног.
П а н к р а т о в. Следы какие-то. Не моют их, что ли?
Л я к и н. Чего не моют?
П а н к р а т о в. Пятна, я говорю, на стуле. Гляди. Засохши… Кровь никак? Или моча? (Круглыми глазами смотрит на Л я к и н а.) Протек кто-то.
Л я к и н. Копец. (Смотрит у себя, вскакивает.) Ё-ё! И у меня… (Трогает пальцем пятна.)
П а н к р а т о в. Не отскоблишь. Въелись за стоко лет. Ядрены…
Б у д е т е, немедленно изучив свое сиденье, складывает газету и стелет ее под себя. Потом достает из пакета книгу и принимается ее читать. К у з н е ц о в, слегка пошевелившись, продолжает делать дремотный вид. Л я к и н осторожно садится на самый край стула.
П а н к р а т о в. Скока же здесь мушшин перебывало… Как, все равно, перед казнью.
Молчание. П а н к р а т о в ненадолго затихает, потом вдруг сильно хлопает себя по коленям.
П а н к р а т о в. Нет, что ни говори, а самое страшное в жизни – смерть!
Л я к и н и К у з н е ц о в (почти хором). Дед, твою мать!
Б у д е т е. В сущности, боятся смерти не следует. Никакой смерти вообще нет.
К у з н е ц о в. Тьфу!
П а н к р а т о в. Это как это – «нет»? Как это «нет», когда – р-раз! И ку-ку.
Б у д е т е. Никакого «ку-ку». Человек, когда умер, этого сам осознать никак не может. Правильно? А то, что не осознаваемо, то не существует.
Л я к и н. К, роче, когда, по ходу, сознавать-то уже нечем.
К у з н е ц о в. Чер-рт…
Б у д е т е. Называется – субъективный идеализм. Философское течение.