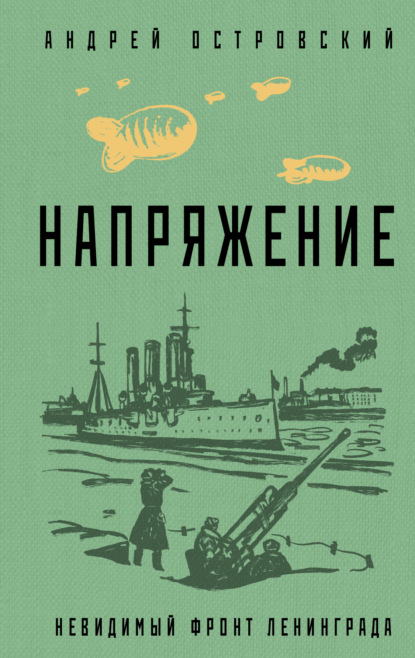По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Напряжение
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
От сосредоточенного внимания, тусклого света коптилки он быстро устал, почувствовал слабость, головокружение. Для передышки занялся железной печкой-буржуйкой, полной бумажного пепла. Вынув с предосторожностями хрупкие, скореженные огнем лепестки, увидел строчки типографского шрифта и сунул обратно.
Блокнотные странички с формулами внесли какое-то смутное беспокойство. Бенедиктов просмотрел их более внимательно: формулы перемежались с какими-то схемами и набросками необычных судов, напоминающих подводные лодки. На одном, вверху, небрежной скорописью было написано (Бенедиктов с трудом разобрал слова):
«Расчет необходимой мощности паровой турбины».
Хм… Повертел листки…
И вдруг мысль, пришедшая в голову, заставила его с поспешностью поставить коптилку на пол. Помогая фонарем, он разглядывал половицу за половицей затоптанного, в песке и пыли паркета, пока с удивлением не натолкнулся на след кружка с пятикопеечную монету, должно быть, от резинового наконечника костыля. Бенедиктов не припоминал, чтобы Лукинский был ранен или жаловался на ноги. Значит, кто-то его посещал? Костылей было два – следы вели в коридор и прихожую.
Проверил на всякий случай квартиру и, не найдя костылей, снова присел на корточки в комнате. Он уже потерял было надежду найти то, что искал, как возле кровати увидел серую спекшуюся крупинку, еще несколько было рассыпано поодаль… Боясь дышать, Бенедиктов собрал их на чистый листок бумаги. Потом поднялся, удовлетворенный, потряхивая кисть руки, которую до судороги свела «динамка».
Дубовый шкаф, общипанный топором сверху, с боков, без ящиков, с остатками резных дверец, в другое время навел бы на размышления о душевной болезни Лукинского, но Бенедиктов как бы не заметил этого. Его интересовало стекло. Мутные, захватанные стаканы сохранили множество отчетливых отпечатков пальцев…
Кроме стекла, грязной посуды, пустых консервных банок да каких-то тряпок, в буфете ничего существенного не оказалось, за исключением, пожалуй, нескольких рисовых зерен: они явно не были просыпаны, а аккуратно выложены на самой середине платочка фиолетового шелка с кружевной отделкой. Зачем?
Не найдя объяснения, Бенедиктов завернул их в платочек и положил к вещам, предназначенным для изъятия.
В этот момент в дверь забарабанили так, будто, спасаясь от преследования, кто-то искал в квартире убежища. Кроме врача, вызванного от Калинова, стучать было некому. И все же Бенедиктов на всякий случай снял предохранитель с пистолета и пошел открывать.
– Покойника разбудите, – недовольно пробурчал он, впуская крупную, мужеподобную Верочку Мелик-Еганову, врача военно-морского госпиталя, – и соседей напугаете. Как дошли?
– Не говорите, цела, – громко сказала она, по-солдатски топая по коридору. Увидела Жукова и паспортистку – поздоровалась. – Пока, тьфу, тьфу, Бог милует. Только подумайте, хотела сократить путь, перейти Неву по льду, уже спустилась, и – артобстрел. Чуть ли не первый снаряд как раз угодил в тропинку на самой середине. Сколько крови, сколько людей под лед пошло! Пришлось задержаться, помочь чем могла. А могла и там быть… Изуверы, изверги, слов нет!..
– Действительно милует, – сочувственно отозвался Бенедиктов, подумав, насколько свыкся он с бомбардировками и обстрелами, что даже не обратил внимания на пальбу. – Это в каком же месте?
– Напротив Медного всадника.
Он подвел Мелик-Еганову к трупу. Она приподняла Лукинского за плечи; Бенедиктов помогал ей, освещал одновременно коптилкой и фонарем голову – вся правая половина лица Лукинского посинела, хлынувшая из развороченного пулей виска кровь запеклась, сквозь черные корки проступала рваная кость.
Намеренно не высказывавший своих соображений, Бенедиктов молчал, с нетерпением ожидая, что скажет врач. Ему показалось, что слишком долго она осматривает рану. А она сильными пальцами расстегнула пальто на Лукинском, оголила его тощую шею, грудь…
– Самоубийство, – сказала она, выпрямляясь. Сняла резиновые перчатки, заправила под шапку выбившиеся рыжие волосы. – Я вижу здесь самоубийство.
– Значит, по-вашему, убийство начисто исключено?
– Я бы так не сказала. Вероятность убийства никогда не может быть полностью исключена. Но в данном случае я, честно говоря, не верю в него. – И после минутного молчания прибавила: – Если убийство, то весьма умелое и аккуратное. Так или иначе, мы отправим труп на экспертизу, и тогда уже никаких сомнений не будет.
– Да, пожалуйста, только сделайте это в максимально короткий срок. Нам необходимо иметь заключение завтра, – сказал Бенедиктов, садясь за составление документов.
Когда бумаги были подписаны, он дунул на пламя коптилки и, кашлянув от поплывшей по комнате керосиновой вони, поблагодарил всех и разрешил расходиться.
3. Школьная тетрадь
Всего какую-нибудь неделю назад Бенедиктов обедал с Лукинским за одним столом в кают-компании, закутке, отгороженном для комсостава от общей столовой.
Его сутулая фигура появилась в тот момент, когда официантка Варенька принесла Бенедиктову жидкий пшенный суп. Лукинский сел напротив, потянул носом: «Ну-с, что сегодня подают?» – «Все то же, Евгений Викторович, все то же…» – улыбнулся Бенедиктов. «Хорошо, что я не гурман. Вы когда-нибудь имели дело с гурманами? О, прелюбопытнейший народ!» И, не ожидая, что ответит Бенедиктов, рассказал про своего знакомого, который варил сосиски в сливках, посыпал свиную тушенку сахарным песком, а зеленый горошек перемешивал с яблочным вареньем – подобные комбинации назывались у него «симфонией вкуса».
За тем же обедом разговорились о штормах (на улице было ветрено, и Балтику наверняка штормило); Лукинский вспомнил, как однажды на испытательных стрельбах в Финском заливе его смыло с катера. Четыре часа швыряло его в волнах – держал капковый жилет, – и уже в темноте, когда мутилось сознание, его нащупали прожекторами и подняли на буксир. «И знаете, что спасло меня? – задержал он ложку у рта. – Жить хотел, верил в спасение, убежден был, что спасут. Думаете, мистика? Не-ет. Мы совсем не изучаем психологический фактор, а зря…»
Жить хотел… Тогда. А теперь?
Бенедиктов сидел за письменным столом в кабинете на Литейном. Рядом, возле сейфа, заправленная койка на случай нужды заночевать. Настольная лампа под зеленым абажуром; разложенные на кучки бумаги Лукинского. Тепло от батарей, электрический свет – в немногих домах такое блаженство! – напоминали довоенную жизнь, домашний уют, но Бенедиктову, как бы ему ни хотелось, нечасто удавалось тут задерживаться. «Тасю бы сюда, хотя бы на недельку, – думал он каждый раз о жене. – Как она страдает от холода!»
Взялся за бумаги.
Лукинский… Лукинский… Проступило призрачно лицо – узкое, с высоким лбом, седые реденькие волосы, набухшие веки над воспаленными близорукими глазами – выглядел он явно старше прожитых сорока лет.
В части отзывались о нем кто как: недобрый, порядочный, излишне импульсивный, непрактичный, лишенный честолюбия, «не скованная условностями индивидуальность» и проч., сходясь в одном, что инженер он талантливый и яркий. Но что бы ни говорили про Лукинского, подозрений в его тайных общениях с врагом ни у кого, в том числе и у Бенедиктова, не возникало.
Теперь же не подозревать его было невозможно. Бенедиктов просмотрел характеристики. Они были хорошие, с упоминанием заслуг и утверждением политической грамотности и моральной устойчивости Лукинского, как, впрочем, большинство официальных характеристик.
Письма Лукинского никакого интереса не представляли – семейные дела, мимолетный роман довоенной давности, домашние заботы, приветы, поцелуи… И круг лиц невелик. Бенедиктов переписал фамилии в блокнот, потом отыскал школьную тетрадку, привлекшую его внимание еще на квартире инженера.
«Надя, Надюша, бесценное сокровище мое, не уберег тебя, не уберег Егорку, чудо наше, длинноногого несмышленыша. Только-только начинал открывать для себя мир человечек, восторженно смотрел на него с любоп(ытством) и доверч(ивостью) блестящими глазами. Что показал я ему? Жестокость. Что дал достат(очно) поживший на этом свете и обязан(ный) стать мудрым отец?..
Не уберег, а сам остался. Нет мне оправд(аний). Чувствую себя подлецом, убийцей, предателем. Может ли быть что-н(ибудь) тяжелее такого груза? Имею ли я право жить с ним? («Обратить внимание на абзац 2 первой страницы», – пометил у себя в блокноте Бенедиктов.)
Однажды перед сном Егорка спросил меня: «Папа, а люди обязат(ельно) умирают? Все-все? И мама умрет, и ты?» Я ответил, тогда он спросил печально: «И я умру?» – «Да, – сказал я, – и ты тоже, но это будет очень нескоро. К концу жизни люди устают, для них см(ерть) не кажется такой ужасной, они готовы к ней». Он мне не поверил. «Как это так: я – и вдруг умру? – сказал он. – Все останется, а меня не будет. Нет, так не может быть…»
Оказ(алось), может. Ах, малыш мой, малыш!.. Знать бы тогда, что уготовано тебе!
Сколько мне еще отпущено? Ск(олько) бы ни было до конца, до последнего буду казнить себя за легкомыслие, нерасторопность, за чудов(ищно) неверно принятые реш(ения). В жизни принимаешь их много. Но есть главные, ты обязан решать их прав(ильно). Почему не отправил вас из Л(енингра) да тогда, в начале августа? Ты бы, добрая… душа, защитила и оправдала бы меня. А я не буду. Разумеется, мы многого не знали. Но у меня-то копошились такие мыслишки: как же я ост(анусь) без Наденьки? Не привык я быть один. Одному мне неудобно. Знала ли ты, что для меня, каприз(ного) ревнивца и белоручки, ты была всем?! Я без тебя – беспомощен.
Был ли я для тебя всем? О, если бы так!
Вечная трагедия: чел(овек) оценивает себя и свои пост(упки) после случившегося, когда невозможно ничего поправить. После, а не до!
Всегда ли я был справедлив к тебе? Нежности мне не хват(ало), раздражался по пустякам. И слабости мои, будь они прокляты… Ск(олько) было великолепных мыслей, идей, ухватиться бы за одну и тянуть! Неудачи сбивали с ног, кидало из стороны в сторону. Тебе же хотел доказать, что я чего-нибудь стою. Как я тебя любил!
Зачем я пишу? Не знаю…
Нет, знаю прекр(асно), лгу сам себе. Карандаш и тетрадь – мое спасение, жалкий остаток моей жизни. Кое-как поддерживал еще интерес к нерешенной задаче, но вчера и этому конец. («О какой задаче идет речь? Страница 3», – записал Бенедиктов.) Что же дальше? Пустота? Раньше у меня никогда не возникало потреб(ности) писать. Потреб(ность) – та же необх(одимость). Зачем было уединяться с мертвой бумагой, когда не успевал жить, когда рядом была Наденька, был Егорка, были милые С., стеснительный до болезненности молчун Т., язвительный, парадокс(ально) мыслящий Ч., наконец, Б. В прошлом. С. все в могиле, у Т. свои заботы, Ч. уехал с заводом на Урал, Б. … Б. жив, но для меня умер, след(овательно), не существует.
Боже мой, какая жуткая тоска! Как страшно сидеть одному, в пальто, да еще под одеялом, в этой хол(одной) прокоптелой халупе, смотреть на туск(лое) пятно коптилки и думать, думать… Пытка, самоистязание. Когда водишь карандашом – легче. Вроде бы дело. Не дело, кон(ечно), видимость одна, но отвлекает.
Раздобыл две доски в разр(ушенном) доме. Разбил стулья, кроме одного. Теперь щеплю буфет. Экономлю для растопки. Топлю Брокгаузом. Том на день и еще кое-какие книжонки. Все равно холодно, тепла хватает на полч(аса). Вода в кружке не вскипает. Мерзнут ноги, пальцы, пишу в перчатках, весьма неудобно».
Чувствуя, что перестает улавливать смысл, Бенедиктов отложил лупу, выпрямился, потер слипающиеся веки, полистал вперед странички – еще порядочно! Лукинский писал твердым карандашом, прорезавшим бумагу, почерк у него был дрянной, к тому же, торопясь или из-за экономии, он обрывал слова.
Сняв китель, Бенедиктов повесил его на спинку стула. Потом сходил к титану на этаже, налил стакан кипятку и, вернувшись, отпил несколько глотков.
«Память – как сбившийся маятник: прошлое – настоящее – прошлое – будущее… О будущем стараюсь не думать. Оно неясно, но я верю… («Во что?» – написал для себя Бенедиктов, обозначив страницу.) И знаю: меня оно не коснется. (Отметил в блокноте и эту фразу.)
Вчера шел по каналу в часть. Тихо и пустынно. Только впереди брела старуха. Поковыляет – и за стену. Потом совсем сдала – схватилась за водосточную трубу, клонится к земле. Попробовал ее поднять, увидел – не старуха, а барышня, лет двадцать ей – дочка наших соседей по дому. Знал ее очаровательной девчоночкой, вся в кудряшках, умница. Что стало? Лицо ссохлось, пожелтело, в морщинах, под глазами мешки, губы синие.
Повел ее к дому. Повисла на мне. Тяжело, самого ноги не держат, одышка. «Оставьте меня, идите», – а сама глотает воздух. Тащил ее, пока не выдохся. Посадил на тумбу, пошел.
Когда возвращался, она сидела на том же месте. Было все ясно.