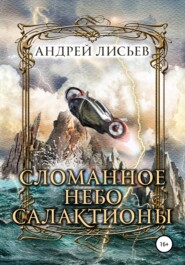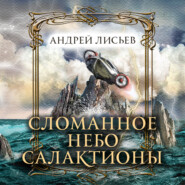По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Копье прозрения
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Знаю, но я не вижу ее.
– Зато она видит тебя.
Мы молчим. Я слышу, как Савелий переминается с ноги на ногу, и жду, что он сядет рядом.
– А что ты видишь, княжич?
Он ногтем срывает с моих глаз повязку. Я задираю голову к небу.
– Мне кажется, что я вижу солнце.
Дядька довольно сопит, а потом вкрадчиво над самым ухом уточняет:
– А что ты видишь впереди?
Я незрячими глазами всматриваюсь туда, где должна быть топь. Так не может быть, но я на самом деле кое-что вижу.
– Я вижу изумрудную дорогу.
Теперь Савелий уже не доволен. Наоборот, судя по прерывистому вздоху, он расстроен.
– Я тоже ее вижу, княжич…
– И ты потому боишься сесть рядом со мной?
– Боюсь, – соглашается дядька, и в его голосе слышится облегчение.
– Расскажи мне сказку, дядька Савелий, – прошу я.
– Какую?
Он обрадовался, что я не прошу садиться со мной рядом.
– О тех, кто построил этот мостик и гриб.
– Я не люблю эту сказку, – отвечает Савелий и снова мрачнеет.
Меня забавляет легкость, с которой я читаю перемены в его настроении.
– Почему?
– Потому что она – быль.
– Пожалуйста… – прошу я еще раз и добавляю в голос немного мольбы.
Что бы не пришлось мне пережить, для Савелия я навсегда останусь мальчиком, воспитанником. Которого можно пожалеть, а можно наказать.
– Ладно, слушай.
Савелий грузно опускается на мостик неподалеку от меня так, что тот жалобно скрипит.
– Давным-давно в этих краях были два огромных озера. Задолго до того, как варяги освоили волок.
– Волок?
– Смерды называют его Королевской дорогой. Помнишь такую? Простой народ любит приукрашивать. Давным-давно варяги волокли здесь свои суда, даже старики не помнят, когда.
– Зачем это варягам?
– Как зачем? Затем же, зачем большинство путей проложено. Для торговли! Смотри. Ловать течет на север. Двина – на запад. Здесь купцы варяжские перетаскивали ладьи из Ловати и Двины в Днепр, чтобы идти
дальше на юг, к грекам. Малых рек да озер здесь хватает, волоки были недлинные. На севере от озер стояли селенья словен ильменских, на юге – кривичей. На берегах озер жили племена еще древнее, чем словене и кривичи, и все были счастливы богатеть чужой торговлей.
Савелий замолкает ненадолго. Я не тороплю его, жду, пока слова улягутся, сложатся в рассказ. Дядька откашливается и продолжает.
– Словене курганы строили, кривичи курганы строили, а озерные люди не строили курганов. Головами у них были не князья, а волхвы, жрецы древних богов. Князья в те времена от простых воинов мало чем отличались. Они созывали дружины, а богатые озерные волхвы нанимали их против разбойников. Люди боялись богов, а волхвы умели говорить с богами. Дождь умели вызывать, замирять волны.
– Волны? Зачем?
– На озерах тех всегда были волны, оттого называли их морем. Иногда волны бывали сильные. Ступаешь по берегу, а волны приходят и заливают твои ноги…
Савелий снова замолкает, а я представляю себе картину. Выходит смешно.
– А потом?
– А потом люди прогневали древних богов, и два больших озера ушли в землю. Осталась топь, без края и без дна. Вот эта.
Савелий шевелится так, что мосток трещит под ним. Жаль ему озер.
– А чем прогневали?
– Изменой. Однажды князь кривичей не ушел со своей дружиной, а решил убить верховного жреца, дабы занять его место. У волхва было капище – гигантский дуб на обрывистом берегу, посеред двух озер. Он очертил то капище волшебным кругом, через который никто не мог пройти. И оттуда проклял князя, и дружину его, и весь народ его на веки вечные древним проклятьем. Дуб рухнул в озеро вместе с волхвом. Исчез под водой жрец, исчез дуб, а потом ушли в землю и сами озера. Осталась только топь и несчастные нищие смерды, лишенные милости богов.