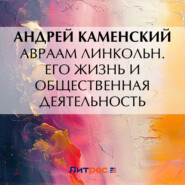По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Джеймс Уатт. Его жизнь и научно-практическая деятельность
Жанр
Год написания книги
2008
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
2) В 1782 году последовала третья привилегия под общим названием – “Некоторые усовершенствования в паровых или огневых машинах для поднятия воды и других механических целей”. В действительности в этот патент входят пять совершенно независимых усовершенствований, сделанных в разное время с тех пор, как Уатт начал работать над паровой машиной.
Это было, во-первых, употребление пара с расширением, отсекавшегося прежде наполнения им всего цилиндра. Первая мысль об этом явилась у Уатта еще в 1767 году. Он тогда же еще нашел, что при отсекании пара, то есть при закрывании клапана паровой трубы от паровика к цилиндру на четверти хода поршня, получается действие, равное более чем от двойного количества пара, если он наполняет вдвое меньший цилиндр. Такова сила упругости пара; расширяясь и разрежаясь, он продолжает давить на поршень и двигать его. Уатт нашел, что, давая таким образом пару расширяться, можно чувствительно экономить топливо.
Во-вторых, в той же привилегии описана машина двойного действия с двумя впусками пара по обе стороны поршня, или с двойным цилиндром, как называл ее сам автор. Это тот самый принцип, который пришел ему в голову в первые дни после изобретения самой паровой машины с отдельным конденсатором. Благодаря этому принципу его машина перестала быть наполовину воздушной и сделалась вполне паровой. Пар в ней действует не на одну, а на обе стороны поршня и таким образом устраняет действие на него атмосферного давления. При том же самом механизме, тех же тратах и в то же время такая машина делает вдвое большую работу, чем одиночная, причем не зависит от сбережения топлива вследствие отсекания пара.
В-третьих, двойная или компаунд-машина, состоящая из двух или более отдельных машин, цилиндры которых, как и конденсаторы, соединены между собою таким образом, что пар, употреблявшийся для давления на поршень одной, может действовать, расширяясь, на поршень другой, и так далее, причем поршни обеих машин могут действовать или совместно, или попеременно.
3) В 1/77 году заводчик Вилькинсон обратился к Уатту с вопросом, не может ли он применить своей паровой машины к движению молота в 15 центнеров, который делал бы 30–40 ударов в минуту. Опыты были начаты тогда же, сначала с молотом в 60 фунтов, но так как Уатту тогда приходилось проводить почти все время в Корнуэле, то это дело было оставлено и не возобновлялось вплоть до конца 1782 года. Зато в этом году были получены замечательные результаты. Сам всем недовольный Уатт писал Болтону:
“Ну, такой вещи, кажется, еще никто никогда не мог сделать!”
После долгих опытов он сумел устроить молот в 7,5-10 центнеров, делавший до 300 ударов в минуту (для практических целей 100 ударов вполне достаточно). Это был первый паровой молот, привилегия на который была взята в 1784 году. По своей практической важности она уступает разве только самой первой 1769 года. Дело в том, что, кроме главного изобретения – молота, в ней заключается целый ряд других мелких, из которых каждое сделало бы честь любому механику.
Самое важное из них, конечно, – параллелограмм Уатта, служащий для сообщения поршневым стержням всегда прямолинейного и вертикального движения без помощи цепей и зубчатых секторов на концах коромысла, как это делалось прежде. Над объяснением действия этого механизма работало много ученых, а на практике он и до сих пор составляет обязательную часть коромысла, – там, где последний употребляется. Сам Уатт писал своему сыну впоследствии: “Хотя я и не гоняюсь за славой, но параллелограммом горжусь больше, чем каким-нибудь другим механическим изобретением”.
Из других второстепенных нововведений, относящихся к паровому молоту, упомянем только важнейшие, все их описывать было бы совершенно невозможно.
Клапан, дающий возможность машине самой регулировать равномерный приток пара, а через это достигать и равномерной скорости. Он находится в связи с центробежным регулятором, который до сих пор остается почти в том же виде, в каком вышел из рук Уатта 100 лет тому назад. До какой точности доходит действие этого механизма, показывает следующий курьез: на одной бумагопрядильне в Манчестере несколько лет тому назад главная машина, приводившая в движение всю огромную фабрику, двигала вместо пружины или гири стенные часы, и время этих часов совершенно совпадало с другими обыкновенными часами, с маятником, – до того равномерно было движение.
Манометр, показывающий давление пара в паровике.
Манометр для измерения давления в конденсаторе.
Манометр для показания давления пара в цилиндре в различные моменты хода поршня. Здесь же был описан и счетчик для учета числа ходов поршня, о котором уже говорилось прежде.
4) В 1785 году Уаттом было предложено нововведение в фабричной практике, которое, к сожалению, до сих пор еще ожидает своего полного осуществления. Это – бездымный очаг для заводских целей. Дым в нем перед выходом в трубу пропускался через слой раскаленного, уже прогоревшего, кокса. При этом мельчайшие частицы угля, образующие дым, накаливались и сгорали, сберегая таким образом некоторую часть топлива.
5) К этому же десятилетию, и даже к началу его, относится его изобретение, не имевшее ничего общего с паровой машиной, но, тем не менее, оказавшееся в высшей степени полезным в торговой практике. Это конторский копировальный пресс: для писем, рукописей и тому подобного, без которого не обходится теперь ни одна торговая контора.
Вот главные изобретения Джеймса Уатта, с которыми навсегда будет связано его имя. Но кроме того им же в разное время были устроены многие полезные механизмы и приспособления, которые в свое время также имели значение, хотя теперь совершенно забыты. Такова, например, арифметическая счетная машина, на которую изобретатель, кажется, потратил довольно много времени и которая все-таки никогда не имела никакого практического приложения.
Наконец последним и больше всего занимавшим его в дни старости изобретением была машина для копирования скульптурных произведений, или, как он называл ее, эйдограф. Не будучи художником и не претендуя когда-нибудь выучиться какому-нибудь художеству, он придумал механическое приспособление, позволявшее копировать самые причудливые формы, барельефы, медальоны, статуи, бюсты, сосуды и множество других вещей, – с математической точностью. Начата эта машина была еще в конце прошлого столетия, но окончательно закончена и усовершенствована им только за несколько лет до смерти. Мастерская в его доме возле Бирмингема, где он жил последние годы, была полна копий с разных знаменитых оригиналов бюстов, статуэток и тому подобного. Старику доставляло особенное удовольствие раздавать эти красивые вещицы из мрамора и других материалов своим друзьям и знакомым, приговаривая: “А это возьмите на память от молодого художника”. Впоследствии эта машина нашла себе множество промышленных приложений, далеко не всегда такого благородного характера.
Оглядываясь назад на весь этот период времени, обнимаемый главной частью этих изобретений, можно подумать, что автор их только и делал, что обдумывал, пробовал, разрабатывал и строил все эти приспособления, механизмы и машины. На самом же деле ничего не может быть ошибочнее такого предположения: все эти новые мысли и улучшения обдумывались и вырабатывались между делом, попутно. Большая часть их падала на десятилетие 1775–1785 годов, когда Уатт был буквально завален обязательным делом по установке и переделке паровых насосов в Корнуэлских рудниках. Горы деловой переписки, которую ему приходилось вести, одни могли поглотить все время этого очень деятельного человека. И тем не менее, он продолжал изобретать именно тогда настойчивее, чем когда-нибудь, используя любую минуту для составления описаний, привилегий и чертежей, которые, кстати сказать, он делал всегда сам и самым тщательным образом, – более аккуратного и точного чертежника трудно было найти в то время.
Мало того, творческий процесс в его мозгу, очевидно, сопровождался настоящими родовыми муками. Никогда во всю свою жизнь не страдал он так много от головных болей, как в это время; никогда он не изобретал с большими страданиями и едва ли когда-нибудь он отдавался такому полному отчаянию, как в эти дни. Снова и снова давал он себе зарок ничего больше не изобретать, не затевать новых проектов, не делать новых опытов и, по словам его сына, целыми часами сидел у стола, опустив голову на руки и не произнося ни одного слова. Но проходило несколько дней, и он опять забывался в творческом потоке своих мыслей, опять работал в том же направлении и в результате дарил миру важные новые открытия. Его творчество шло не только помимо сознания, но и наперекор воле. До чего он мало сознавал, что в нем происходит, показывают его настойчивые и, несомненно, совершенно искренние жалобы на утрату творческих способностей, какими он обладал прежде, на тупость, подавленность, упадок сил и приближающуюся старость, когда ему еще не было и пятидесяти лет. И все это в период самой усиленной творческой деятельности и торжества его внутренней силы над неблагоприятными внешними условиями.
ГЛАВА X. УАТТ-УЧЕНЫЙ
Что особенно поражает в Уатте – это его независимость во всем, что он знал и сделал. Он был в полном смысле слова самоучкой. Нельзя сказать, чтобы тогда не было школ, университетов, где бы можно было учиться естественной философии (так в Англии называют опытные науки, как будто есть еще другая философия – не естественная).
Но Уатт их не посещал.
Будучи прикован нуждой к станку и мастерской, он никогда не имел на это ни досуга, ни средств.
Даже теорию скрытого тепла, которая имела такое важное значение для его изобретений, он узнал от самого доктора Блэка, а не из его лекций. Прежде он никогда не проходил ни в одной школе сколько-нибудь цельного систематического курса.
Еще живя в отцовском доме в Гриноке, начал он интересоваться астрономией и сам наблюдал звездное небо в роще, за домом. Позднее стал читать книги и по другим отраслям естествознания – физике, химии, анатомии, медицине, механике и проверял все прочитанное опытами, но без всякого стороннего руководства. При этом химии отдавалось предпочтение перед всеми другими науками.
Таким образом продолжал он свое самообразование всю жизнь: читал и наблюдал все, что ни попадалось под руку, и изо всего выбирал только то, что было для него важно и нужно. Эта способность быстрого и меткого выбора, как бы чутьем, составляла один из замечательных его талантов.
Другой бы десять раз запутался в гигантской груде знаний и фактов, приобретенных без всякой системы и где попало, а у Уатта от этого лишь вырабатывались новые способности сортировать знания и отбрасывать ненужное. Из его заметок о каком-нибудь бездарном, но объемистом труде читатель всегда мог узнать гораздо больше, чем от самого автора.
А масса разнообразных сведений, собранных им, была действительно громадна, и далеко не по одним естественным наукам – химии или механике, в которых он, разумеется, был специалистом, – но буквально по всем отраслям знаний, не исключая даже такие, как древности, метафизика, литература, поэзия и тому подобное.
Он знал европейские языки и был хорошо знаком с иностранными литературами.
Немецкому языку он научился специально для того, чтобы прочитать известную тогда книгу по механике (“Theatrum Machinarum”),[6 - “Машинный театр” (лат.)] когда еще жил в глазговском университете. Таким же образом овладел он и итальянским языком.
При всем том его знания были замечательно точны и ясны; стоило только кому-нибудь дать ему тему, указать предмет, о котором желательно побеседовать, и от Уатта можно было услышать массу замечательно интересных, обдуманных сведений и фактов, которые он излагал так легко и свободно, как будто всю свою жизнь только этим предметом и занимался. “Он, – как выражался Вальтер Скотт, его современник, – обнимал всякий вопрос своим талантом”, и всякому слушателю казалось, что он имеет дело с человеком, в руках которого все так ясно, просто и понятно.
Как мы не раз уже говорили, ученым по профессии Уатт был так же мало, как и по образованию, – но создавал научные работы, удивлявшие ученых. Его целью было не обогащать науку, как бы он ее ни любил, а “побеждать природу”, и для этого “нужно было только находить ее слабые места”. Наука служила ему лишь средством добиваться этого.
Нужно, впрочем, заметить, что тогдашняя наука во многом еще отличалась от того, что называется этим именем теперь. Строгих границ не существовало: тепло и свет считались такими же элементарными веществами, как вода, водород, железо, сера и тому подобное. Не далее как еще в 1781 году ученые старались решить вопрос, имеет ли тепло вес, и отвечали на него: “Да, но очень малый”. Сама химия только еще начинала выходить из младенческого состояния, освобождаться от предрассудочных понятий алхимиков. Только в восьмидесятых годах XVIII столетия Лавуазье, а потом и другие химики начинают пользоваться при своих опытах весами и тем ставят свои работы на почву точных научных исследований. Только в 1773 году тот же Лавуазье противопоставляет свою разумную теорию окисления и восстановления (только еще подозревая о существовании кислорода, который был открыт как особый газ Пристлеем в 1774 году) отжившей свой век, но владевшей еще умами ученых флогистонной теории Сталя. Вода и воздух считались простыми веществами, которых нельзя разложить. Химия была собранием отрывочных наблюдений над разными простыми и сложными веществами, доставшихся ей большею частью в наследство от алхимиков и не связанных никакими общими объединяющими принципами. В конце XVIII века эти общие принципы только что начинали устанавливаться.
В этом отношении уяснение перехода тел из одного состояния в другое, то есть из твердого в жидкое, из жидкого в газообразное и обратно, имело громадное значение. Открытие скрытого тепла Блэком послужило первым важным шагом, благодаря которому истина стала выясняться. На теплоту начали смотреть как на скрытую составную часть всех простых тел, которые ее отделяют или поглощаются, смотря по обстоятельствам.
Очень естественно, что Уатт, которому большую часть своей жизни пришлось проработать над сбережением и расходованием тепла, над образованием из воды пара и превращением этого пара в полезную работу, должен был беспрестанно натыкаться на вопрос о переходе тел из одного состояния в другое, а при своем умении браться за дело и “из всего делать науку” не мог не додуматься до новых научных истин.
Так оно и было. Зная, что вода для превращения в пар должна, как тогда выражались, “соединиться” со скрытым теплом, а с другой стороны, что чем больше видимое тепло пара, тем меньше его скрытое тепло, – Уатт уже в 1782 году в письме к Болтону высказывает следующее предположение: при сильном нагревании водяного пара он, по всей вероятности, совершенно изменит свою природу и превратится в какой-нибудь газ или воздух, как тогда называли газы.
Примерно тогда же многие ученые, производя опыты с возгоранием водорода, всегда замечали при этом появление влажности. Пристлей первый заметил, что и при взрывании гремучей смеси водорода с кислородом в закрытом стеклянном сосуде электрической искрой на стенках его после охлаждения появляется роса, очень похожая на воду. Эти опыты повторялись многими тогдашними английскими и французскими учеными, но появление росы всегда объяснялось осаждением влажности из воздуха и взятых газов, а не соединением самих газов в воду. Наконец пришли к заключению, что вода есть не что иное, как соединение одной объемной части кислорода и двух частей водорода; что она получается из их соединения со взрывом и выделением тепла и разлагается на них при очень сильном нагревании водяного пара или при пропускании электрического тока через воду. Спрашивается, кто же первый додумался до этих выводов?
Во всех учебниках химии пишется, что честь открытия состава воды принадлежит английскому ученому Кавендишу. Это подтверждается и ссылкой на его работу “Опыты над воздухом”, помеченную январем 1783 года. Но это не совсем так: этот год неверен и был в свое время публично изменен на 1784 год, когда сочинение было представлено в Королевское общество и опубликовано им. С другой стороны, в начале 1783 года в то же Королевское общество была представлена работа Джеймса Уатта под заглавием: “Мысли о составных частях воды и о кислороде”, в которой совершенно ясно устанавливались положения, что… “вода, свет и тепло суть единственные продукты бурного соединения водорода с кислородом в закрытом сосуде при опытах Пристлея и что, следовательно,, вода состоит из кислорода и водорода, лишенных части их скрытого или элементарного тепла и – дальше – что чистый или лишенный флогистона воздух состоит из воды, лишенной своего водорода и соединенной с элементарным, или скрытым, теплом и светом”.
Но, к сожалению, это сочинение целый год пролежало в Королевском обществе и было прочитано только в апреле 1784 года.
Между сторонниками того и другого поднялся ожесточенный спор за первенство открытия, причем Кавендиш и его партия утверждали, что работы, на которых он основывал свое заключение о составе воды, были сделаны еще в 1781 году, когда Пристлей в первый раз заметил влажность на стенках закрытого сосуда при взрыве гремучей смеси. Между тем, друзья Уатта настаивали на том, что в 1781 году Кавендишем были лишь повторены опыты Пристлея, а что заключения о составе воды им никогда сделаны не были, но что он узнал о них от члена Королевского общества Блягдена из сочинения Уатта, целый год лежавшего в обществе и открытого для всех членов. Такое соображение подтверждается якобы умышленным изменением тем же Блягденом чисел, во-первых, упомянутого сочинения Кавендиша и, во-вторых, одного важного письма Уатта, которым доказывалось первенство его открытия. И то, и другое Блягден мог сделать, потому что эти документы печатались Королевским обществом, когда он был секретарем общества, – за что он будто бы и получил по смерти Кавендиша 150 тысяч рублей. “Кто виноват, кто прав, – судить не нам”, и, кажется, гораздо лучше будет повторить вместе с Уаттом, что он сказал один раз в старости: “Не все ли равно, кто первый открыл состав воды; важно то, что он открыт”. Но, во всяком случае, для нас важно знать, что Уатт совершенно независимо пришел к открытию состава воды.
Нельзя, конечно, не заметить, что в это время умы многих людей были заняты этим вопросом, что это был барьер, до которого доработалась тогдашняя наука и ученые; многие одновременно пробовали взять этот барьер, но неудачно. Уатту же удалось сделать это, быть может, потому, что его опыт и знакомство с переходом тел из одного состояния в другое были не книжные и даже не лабораторные, а практические, жизненные. Следя за общим ходом его работ, мы можем даже наметить тот путь, по которому шла его мысль, приближаясь к открытию состава воды. Постоянно, уже в течение более десяти лет, встречаясь со сгущением пара в воду и совершенно ясно понимая причину происходящего при этом выделения тепла, ему трудно было не найти сходства с этим явлением во взрыве гремучей смеси при опытах Пристлея: при сгущении пара остается пустота, выделяется тепло и получается вода. При взрыве газов у Пристлея также оставалась пустота, также выделялась тепло, и в результате должна была появляться тоже вода.
Такое заключение должно было само собою напрашиваться Уатту, если бы даже у него и не было никаких намеков на общность водорода и кислорода с водою, каких на самом деле у него было немало. И он сделал это заключение.
Как трудно было бы представить себе личность Уатта в первый период его жизни, в период изобретения паровой машины без связи его с университетом Глазго и его тамошними друзьями, так же трудно понять течение его мыслей во время жизни в Бирмингеме, ничего не зная о “Лунном обществе” и его членах. По какому-то странному стечению обстоятельств Бирмингем семидесятых годов прошлого века, то есть в эпоху всеобщего оживления и пробуждения мысли, сделался центром избранных умов и талантов средней Англии. Философы, ученые и меценаты, инженеры, механики и изобретатели собрались здесь в одну тесную группу и назвались “Лунным обществом”, во-первых, потому, что они собирались раз в месяц у одного из своих членов, поочередно, около полнолуния, а во-вторых, потому, что собрания эти, начинаясь около двух часов дня обедом, кончались после обсуждения всевозможных вопросов уже поздно вечером, и расходиться членам приходилось по домам при лунном свете. Это не было в строгом смысле ученое общество; едва ли не вернее будет назвать его обществом свободных мыслителей, существовавших тогда не в одной Англии. Его дружеские собрания всегда посвящались самым оживленным и горячим прениям о научных и философских вопросах дня. Без всякого формализма, без чинопочитания и церемоний сюда сходились люди самых различных профессий и положений обменяться живым словом об интересовавших их новостях науки, философии и повседневной жизни, которые всюду волновали умы в конце XVIII века. Многие из членов были связаны тесной дружбой, других привлекал сюда свет ума и знаний той основной интимной группы, которую составляли, кроме Уатта, Смола и Болтона, химик Пристлей, другой химик и большой остряк Кэр, поэт Дарвин, ботаник Витеринг, механик Эджворт, филантроп и эксцентрик Дей и другие.
Пристлей был в высшей степени замечательным человеком сам по себе, помимо всякого отношения к Уатту или “Лунному обществу”, в котором он играл, несомненно, выдающуюся роль. При огромных способностях и самых разнообразных познаниях в естественных науках, механике, метафизике и так далее, он обладал невероятной энергией и настойчивостью во всех своих ученых работах; увлекался буквально всем, за что ни брался, а брался он также почти за все и страдал из-за отсутствия всякой системы, своей разбросанности. Но энергия и энтузиазм дополняли эту слабость. Будучи пресвитерианским проповедником и имея большую семью, он никогда не заботился о завтрашнем дне и конечно бедствовал. Когда друзья хотели было раз подать ему практический совет, как распорядиться с пользой для себя его научными открытиями, он резко ответил им, что никогда не извлекал, да и не намерен извлекать из науки материальных выгод для себя. И действительно, как только этот энтузиаст находил что-нибудь новое, даже прежде, чем был сам уверен в успехе, он разглашал о сделанном им открытии всем своим знакомым и приятелям, причем случалось, что некоторые из них пользовались его указаниями и намеками, разрабатывали их и потом выдавали за свои собственные открытия, а Пристлей оставался ни с чем. К счастью, в среде “Лунного общества” обязанности дружбы и человечности понимались не так, как в ученых обществах. Сначала в пользу Пристлея составлялись единовременные подписки, а потом все состоятельные члены, по инициативе Болтона и Веджвуда, согласились вносить ежегодно определенную сумму, с тем чтобы Пристлей мог продолжать свои ученые работы, не заботясь о куске хлеба. Это оказалось тем более исполнимо, что потребности у него с семьей были очень умеренными. Нечего и говорить, что все это делалось без ведома самого Пристлея. Читая дружескую переписку по этому поводу между Болтоном, Веджвудом и другими, не знаешь, чему больше удивляться в этих людях XVIII века: верности ли понимания своих общественных обязанностей или искренней симпатии, деликатности и скромности, с которыми они помогали друг другу.
В таком кругу всякий теоретический вопрос должен был освещаться особым интересом, и не мудрено, что паровая машина и разные химические вопросы могли служить поэту Дарвину темами для его песнопений, а остряку Кэру неистощимым источником его шуток, оживлявших даже самые сухие и отвлеченные дебаты.
Но по некоторым указаниям можно заключить, что не все собрания посвящались вопросам отвлеченной науки. В 1791 году, когда события во Франции достигли своего высшего напряжения, беседы приняли совсем другой характер. Было бы напраслиной сказать, что среди самих членов “Лунного общества” было много революционеров или даже сочувствовавших французской революции, но интерес в них к событиям во Франции, несомненно, был очень велик. Не говоря о том, что у многих там были личные друзья и знакомые, как Лавуазье, Лаплас, Бертоле и так далее, у других, как у Болтона, Уатта и Пристлея, там воспитывались дети, – всех их крайне интересовал исход этого общественного кризиса, судьба тех принципов, к которым в глубине души они не могли не чувствовать некоторой симпатии.
Неудивительно поэтому, что, несмотря на вполне “благонамеренные” политические взгляды и известную религиозность многих из них, на все “Лунное общество” в Бирмингеме смотрели как на сборище вольтерьянцев и свободных мыслителей. К тому же между ними были действительно и черные овцы: Пристлей, не стесняясь, высказывал свое сочувствие к французским делам. Вольнодумец в делах церкви и республиканец в политике, он и прежде не пользовался репутацией “благонадежного” и правоверного, особенно между духовенством. А теперь, когда в 1791 году из Парижа приехал его сын и с энтузиазмом возвестил всему обществу о торжестве новых идей, его восторг сообщился и пылкому отцу. Теперь он уже с кафедры начал громить поповство и королевскую власть и открыто вступал в диспуты с духовенством, а бордосское “Общество друзей человека” выбрало его, почти единственного из англичан, своим почетным членом. В те же дни было получено известие, конечно, не без прикрас, что сын Уатта, Джеймс, душой и телом предался революционным делам, сделался членом Якобинского клуба и даже мирил в качестве секунданта Робеспьера с Дантоном, а потом, поссорившись с главою Конвента, должен был бежать в Италию.
Всего этого было довольно, чтобы возмутить бирмингемских хранителей старины. И вот, когда компания тамошних радикалов затеяла публичный обед в одном из отелей, толпа людей бросилась на этот дом, выбила окна, переломала мебель и с криком: “Долой философов, да здравствует церковь и король!” – кинулась разорять и поджигать дома Пристлея и других диссидентов. Самого его успели предупредить, и он вовремя оставил дом вместе со своим семейством. Болтон и Уатт в это время вооружили своих рабочих на заводе и приготовились дать решительный отпор, если бы толпа сделала на них нападение. Однако этого не случилось: большая часть диссидентов жила в другой части города, и театр военных действий перенесся туда. Через несколько дней Пристлей смог вернуться в город, но жить в Бирмингеме ему было уже невозможно, и он переселился в Америку, где и умер в городе Нортумберленде в Пенсильвании в 1803 году.
Насколько велика была утрата “Лунного общества” с отъездом Пристлея, настолько же и сам он сожалел о потере его: “Все, что мне удалось сделать для науки, – писал он к друзьям, – когда я жил в Бирмингеме, столько же принадлежит вам, как и мне самому”. Примерно в это же время оставили Бирмингем и некоторые другие члены “Лунного общества”, и хотя оно продолжало еще существовать до начала XIX столетия, но никогда не было уже таким оживленным и деятельным, как в описанное время.
К числу заслуг Уатта перед наукой следует также отнести его предложение принять общую для всех стран десятичную систему мер и весов, с которым он обратился к выдающимся английским и французским ученым в 1783 году. Многими это предложение было встречено очень сочувственно. Французская десятичная система, как известно, была выработана особою комиссией в 1789 году. Система Уатта несколько отличалась от принятой потом во Франции, но, вне всякого сомнения, верно выражала потребность того времени.
Это было, во-первых, употребление пара с расширением, отсекавшегося прежде наполнения им всего цилиндра. Первая мысль об этом явилась у Уатта еще в 1767 году. Он тогда же еще нашел, что при отсекании пара, то есть при закрывании клапана паровой трубы от паровика к цилиндру на четверти хода поршня, получается действие, равное более чем от двойного количества пара, если он наполняет вдвое меньший цилиндр. Такова сила упругости пара; расширяясь и разрежаясь, он продолжает давить на поршень и двигать его. Уатт нашел, что, давая таким образом пару расширяться, можно чувствительно экономить топливо.
Во-вторых, в той же привилегии описана машина двойного действия с двумя впусками пара по обе стороны поршня, или с двойным цилиндром, как называл ее сам автор. Это тот самый принцип, который пришел ему в голову в первые дни после изобретения самой паровой машины с отдельным конденсатором. Благодаря этому принципу его машина перестала быть наполовину воздушной и сделалась вполне паровой. Пар в ней действует не на одну, а на обе стороны поршня и таким образом устраняет действие на него атмосферного давления. При том же самом механизме, тех же тратах и в то же время такая машина делает вдвое большую работу, чем одиночная, причем не зависит от сбережения топлива вследствие отсекания пара.
В-третьих, двойная или компаунд-машина, состоящая из двух или более отдельных машин, цилиндры которых, как и конденсаторы, соединены между собою таким образом, что пар, употреблявшийся для давления на поршень одной, может действовать, расширяясь, на поршень другой, и так далее, причем поршни обеих машин могут действовать или совместно, или попеременно.
3) В 1/77 году заводчик Вилькинсон обратился к Уатту с вопросом, не может ли он применить своей паровой машины к движению молота в 15 центнеров, который делал бы 30–40 ударов в минуту. Опыты были начаты тогда же, сначала с молотом в 60 фунтов, но так как Уатту тогда приходилось проводить почти все время в Корнуэле, то это дело было оставлено и не возобновлялось вплоть до конца 1782 года. Зато в этом году были получены замечательные результаты. Сам всем недовольный Уатт писал Болтону:
“Ну, такой вещи, кажется, еще никто никогда не мог сделать!”
После долгих опытов он сумел устроить молот в 7,5-10 центнеров, делавший до 300 ударов в минуту (для практических целей 100 ударов вполне достаточно). Это был первый паровой молот, привилегия на который была взята в 1784 году. По своей практической важности она уступает разве только самой первой 1769 года. Дело в том, что, кроме главного изобретения – молота, в ней заключается целый ряд других мелких, из которых каждое сделало бы честь любому механику.
Самое важное из них, конечно, – параллелограмм Уатта, служащий для сообщения поршневым стержням всегда прямолинейного и вертикального движения без помощи цепей и зубчатых секторов на концах коромысла, как это делалось прежде. Над объяснением действия этого механизма работало много ученых, а на практике он и до сих пор составляет обязательную часть коромысла, – там, где последний употребляется. Сам Уатт писал своему сыну впоследствии: “Хотя я и не гоняюсь за славой, но параллелограммом горжусь больше, чем каким-нибудь другим механическим изобретением”.
Из других второстепенных нововведений, относящихся к паровому молоту, упомянем только важнейшие, все их описывать было бы совершенно невозможно.
Клапан, дающий возможность машине самой регулировать равномерный приток пара, а через это достигать и равномерной скорости. Он находится в связи с центробежным регулятором, который до сих пор остается почти в том же виде, в каком вышел из рук Уатта 100 лет тому назад. До какой точности доходит действие этого механизма, показывает следующий курьез: на одной бумагопрядильне в Манчестере несколько лет тому назад главная машина, приводившая в движение всю огромную фабрику, двигала вместо пружины или гири стенные часы, и время этих часов совершенно совпадало с другими обыкновенными часами, с маятником, – до того равномерно было движение.
Манометр, показывающий давление пара в паровике.
Манометр для измерения давления в конденсаторе.
Манометр для показания давления пара в цилиндре в различные моменты хода поршня. Здесь же был описан и счетчик для учета числа ходов поршня, о котором уже говорилось прежде.
4) В 1785 году Уаттом было предложено нововведение в фабричной практике, которое, к сожалению, до сих пор еще ожидает своего полного осуществления. Это – бездымный очаг для заводских целей. Дым в нем перед выходом в трубу пропускался через слой раскаленного, уже прогоревшего, кокса. При этом мельчайшие частицы угля, образующие дым, накаливались и сгорали, сберегая таким образом некоторую часть топлива.
5) К этому же десятилетию, и даже к началу его, относится его изобретение, не имевшее ничего общего с паровой машиной, но, тем не менее, оказавшееся в высшей степени полезным в торговой практике. Это конторский копировальный пресс: для писем, рукописей и тому подобного, без которого не обходится теперь ни одна торговая контора.
Вот главные изобретения Джеймса Уатта, с которыми навсегда будет связано его имя. Но кроме того им же в разное время были устроены многие полезные механизмы и приспособления, которые в свое время также имели значение, хотя теперь совершенно забыты. Такова, например, арифметическая счетная машина, на которую изобретатель, кажется, потратил довольно много времени и которая все-таки никогда не имела никакого практического приложения.
Наконец последним и больше всего занимавшим его в дни старости изобретением была машина для копирования скульптурных произведений, или, как он называл ее, эйдограф. Не будучи художником и не претендуя когда-нибудь выучиться какому-нибудь художеству, он придумал механическое приспособление, позволявшее копировать самые причудливые формы, барельефы, медальоны, статуи, бюсты, сосуды и множество других вещей, – с математической точностью. Начата эта машина была еще в конце прошлого столетия, но окончательно закончена и усовершенствована им только за несколько лет до смерти. Мастерская в его доме возле Бирмингема, где он жил последние годы, была полна копий с разных знаменитых оригиналов бюстов, статуэток и тому подобного. Старику доставляло особенное удовольствие раздавать эти красивые вещицы из мрамора и других материалов своим друзьям и знакомым, приговаривая: “А это возьмите на память от молодого художника”. Впоследствии эта машина нашла себе множество промышленных приложений, далеко не всегда такого благородного характера.
Оглядываясь назад на весь этот период времени, обнимаемый главной частью этих изобретений, можно подумать, что автор их только и делал, что обдумывал, пробовал, разрабатывал и строил все эти приспособления, механизмы и машины. На самом же деле ничего не может быть ошибочнее такого предположения: все эти новые мысли и улучшения обдумывались и вырабатывались между делом, попутно. Большая часть их падала на десятилетие 1775–1785 годов, когда Уатт был буквально завален обязательным делом по установке и переделке паровых насосов в Корнуэлских рудниках. Горы деловой переписки, которую ему приходилось вести, одни могли поглотить все время этого очень деятельного человека. И тем не менее, он продолжал изобретать именно тогда настойчивее, чем когда-нибудь, используя любую минуту для составления описаний, привилегий и чертежей, которые, кстати сказать, он делал всегда сам и самым тщательным образом, – более аккуратного и точного чертежника трудно было найти в то время.
Мало того, творческий процесс в его мозгу, очевидно, сопровождался настоящими родовыми муками. Никогда во всю свою жизнь не страдал он так много от головных болей, как в это время; никогда он не изобретал с большими страданиями и едва ли когда-нибудь он отдавался такому полному отчаянию, как в эти дни. Снова и снова давал он себе зарок ничего больше не изобретать, не затевать новых проектов, не делать новых опытов и, по словам его сына, целыми часами сидел у стола, опустив голову на руки и не произнося ни одного слова. Но проходило несколько дней, и он опять забывался в творческом потоке своих мыслей, опять работал в том же направлении и в результате дарил миру важные новые открытия. Его творчество шло не только помимо сознания, но и наперекор воле. До чего он мало сознавал, что в нем происходит, показывают его настойчивые и, несомненно, совершенно искренние жалобы на утрату творческих способностей, какими он обладал прежде, на тупость, подавленность, упадок сил и приближающуюся старость, когда ему еще не было и пятидесяти лет. И все это в период самой усиленной творческой деятельности и торжества его внутренней силы над неблагоприятными внешними условиями.
ГЛАВА X. УАТТ-УЧЕНЫЙ
Что особенно поражает в Уатте – это его независимость во всем, что он знал и сделал. Он был в полном смысле слова самоучкой. Нельзя сказать, чтобы тогда не было школ, университетов, где бы можно было учиться естественной философии (так в Англии называют опытные науки, как будто есть еще другая философия – не естественная).
Но Уатт их не посещал.
Будучи прикован нуждой к станку и мастерской, он никогда не имел на это ни досуга, ни средств.
Даже теорию скрытого тепла, которая имела такое важное значение для его изобретений, он узнал от самого доктора Блэка, а не из его лекций. Прежде он никогда не проходил ни в одной школе сколько-нибудь цельного систематического курса.
Еще живя в отцовском доме в Гриноке, начал он интересоваться астрономией и сам наблюдал звездное небо в роще, за домом. Позднее стал читать книги и по другим отраслям естествознания – физике, химии, анатомии, медицине, механике и проверял все прочитанное опытами, но без всякого стороннего руководства. При этом химии отдавалось предпочтение перед всеми другими науками.
Таким образом продолжал он свое самообразование всю жизнь: читал и наблюдал все, что ни попадалось под руку, и изо всего выбирал только то, что было для него важно и нужно. Эта способность быстрого и меткого выбора, как бы чутьем, составляла один из замечательных его талантов.
Другой бы десять раз запутался в гигантской груде знаний и фактов, приобретенных без всякой системы и где попало, а у Уатта от этого лишь вырабатывались новые способности сортировать знания и отбрасывать ненужное. Из его заметок о каком-нибудь бездарном, но объемистом труде читатель всегда мог узнать гораздо больше, чем от самого автора.
А масса разнообразных сведений, собранных им, была действительно громадна, и далеко не по одним естественным наукам – химии или механике, в которых он, разумеется, был специалистом, – но буквально по всем отраслям знаний, не исключая даже такие, как древности, метафизика, литература, поэзия и тому подобное.
Он знал европейские языки и был хорошо знаком с иностранными литературами.
Немецкому языку он научился специально для того, чтобы прочитать известную тогда книгу по механике (“Theatrum Machinarum”),[6 - “Машинный театр” (лат.)] когда еще жил в глазговском университете. Таким же образом овладел он и итальянским языком.
При всем том его знания были замечательно точны и ясны; стоило только кому-нибудь дать ему тему, указать предмет, о котором желательно побеседовать, и от Уатта можно было услышать массу замечательно интересных, обдуманных сведений и фактов, которые он излагал так легко и свободно, как будто всю свою жизнь только этим предметом и занимался. “Он, – как выражался Вальтер Скотт, его современник, – обнимал всякий вопрос своим талантом”, и всякому слушателю казалось, что он имеет дело с человеком, в руках которого все так ясно, просто и понятно.
Как мы не раз уже говорили, ученым по профессии Уатт был так же мало, как и по образованию, – но создавал научные работы, удивлявшие ученых. Его целью было не обогащать науку, как бы он ее ни любил, а “побеждать природу”, и для этого “нужно было только находить ее слабые места”. Наука служила ему лишь средством добиваться этого.
Нужно, впрочем, заметить, что тогдашняя наука во многом еще отличалась от того, что называется этим именем теперь. Строгих границ не существовало: тепло и свет считались такими же элементарными веществами, как вода, водород, железо, сера и тому подобное. Не далее как еще в 1781 году ученые старались решить вопрос, имеет ли тепло вес, и отвечали на него: “Да, но очень малый”. Сама химия только еще начинала выходить из младенческого состояния, освобождаться от предрассудочных понятий алхимиков. Только в восьмидесятых годах XVIII столетия Лавуазье, а потом и другие химики начинают пользоваться при своих опытах весами и тем ставят свои работы на почву точных научных исследований. Только в 1773 году тот же Лавуазье противопоставляет свою разумную теорию окисления и восстановления (только еще подозревая о существовании кислорода, который был открыт как особый газ Пристлеем в 1774 году) отжившей свой век, но владевшей еще умами ученых флогистонной теории Сталя. Вода и воздух считались простыми веществами, которых нельзя разложить. Химия была собранием отрывочных наблюдений над разными простыми и сложными веществами, доставшихся ей большею частью в наследство от алхимиков и не связанных никакими общими объединяющими принципами. В конце XVIII века эти общие принципы только что начинали устанавливаться.
В этом отношении уяснение перехода тел из одного состояния в другое, то есть из твердого в жидкое, из жидкого в газообразное и обратно, имело громадное значение. Открытие скрытого тепла Блэком послужило первым важным шагом, благодаря которому истина стала выясняться. На теплоту начали смотреть как на скрытую составную часть всех простых тел, которые ее отделяют или поглощаются, смотря по обстоятельствам.
Очень естественно, что Уатт, которому большую часть своей жизни пришлось проработать над сбережением и расходованием тепла, над образованием из воды пара и превращением этого пара в полезную работу, должен был беспрестанно натыкаться на вопрос о переходе тел из одного состояния в другое, а при своем умении браться за дело и “из всего делать науку” не мог не додуматься до новых научных истин.
Так оно и было. Зная, что вода для превращения в пар должна, как тогда выражались, “соединиться” со скрытым теплом, а с другой стороны, что чем больше видимое тепло пара, тем меньше его скрытое тепло, – Уатт уже в 1782 году в письме к Болтону высказывает следующее предположение: при сильном нагревании водяного пара он, по всей вероятности, совершенно изменит свою природу и превратится в какой-нибудь газ или воздух, как тогда называли газы.
Примерно тогда же многие ученые, производя опыты с возгоранием водорода, всегда замечали при этом появление влажности. Пристлей первый заметил, что и при взрывании гремучей смеси водорода с кислородом в закрытом стеклянном сосуде электрической искрой на стенках его после охлаждения появляется роса, очень похожая на воду. Эти опыты повторялись многими тогдашними английскими и французскими учеными, но появление росы всегда объяснялось осаждением влажности из воздуха и взятых газов, а не соединением самих газов в воду. Наконец пришли к заключению, что вода есть не что иное, как соединение одной объемной части кислорода и двух частей водорода; что она получается из их соединения со взрывом и выделением тепла и разлагается на них при очень сильном нагревании водяного пара или при пропускании электрического тока через воду. Спрашивается, кто же первый додумался до этих выводов?
Во всех учебниках химии пишется, что честь открытия состава воды принадлежит английскому ученому Кавендишу. Это подтверждается и ссылкой на его работу “Опыты над воздухом”, помеченную январем 1783 года. Но это не совсем так: этот год неверен и был в свое время публично изменен на 1784 год, когда сочинение было представлено в Королевское общество и опубликовано им. С другой стороны, в начале 1783 года в то же Королевское общество была представлена работа Джеймса Уатта под заглавием: “Мысли о составных частях воды и о кислороде”, в которой совершенно ясно устанавливались положения, что… “вода, свет и тепло суть единственные продукты бурного соединения водорода с кислородом в закрытом сосуде при опытах Пристлея и что, следовательно,, вода состоит из кислорода и водорода, лишенных части их скрытого или элементарного тепла и – дальше – что чистый или лишенный флогистона воздух состоит из воды, лишенной своего водорода и соединенной с элементарным, или скрытым, теплом и светом”.
Но, к сожалению, это сочинение целый год пролежало в Королевском обществе и было прочитано только в апреле 1784 года.
Между сторонниками того и другого поднялся ожесточенный спор за первенство открытия, причем Кавендиш и его партия утверждали, что работы, на которых он основывал свое заключение о составе воды, были сделаны еще в 1781 году, когда Пристлей в первый раз заметил влажность на стенках закрытого сосуда при взрыве гремучей смеси. Между тем, друзья Уатта настаивали на том, что в 1781 году Кавендишем были лишь повторены опыты Пристлея, а что заключения о составе воды им никогда сделаны не были, но что он узнал о них от члена Королевского общества Блягдена из сочинения Уатта, целый год лежавшего в обществе и открытого для всех членов. Такое соображение подтверждается якобы умышленным изменением тем же Блягденом чисел, во-первых, упомянутого сочинения Кавендиша и, во-вторых, одного важного письма Уатта, которым доказывалось первенство его открытия. И то, и другое Блягден мог сделать, потому что эти документы печатались Королевским обществом, когда он был секретарем общества, – за что он будто бы и получил по смерти Кавендиша 150 тысяч рублей. “Кто виноват, кто прав, – судить не нам”, и, кажется, гораздо лучше будет повторить вместе с Уаттом, что он сказал один раз в старости: “Не все ли равно, кто первый открыл состав воды; важно то, что он открыт”. Но, во всяком случае, для нас важно знать, что Уатт совершенно независимо пришел к открытию состава воды.
Нельзя, конечно, не заметить, что в это время умы многих людей были заняты этим вопросом, что это был барьер, до которого доработалась тогдашняя наука и ученые; многие одновременно пробовали взять этот барьер, но неудачно. Уатту же удалось сделать это, быть может, потому, что его опыт и знакомство с переходом тел из одного состояния в другое были не книжные и даже не лабораторные, а практические, жизненные. Следя за общим ходом его работ, мы можем даже наметить тот путь, по которому шла его мысль, приближаясь к открытию состава воды. Постоянно, уже в течение более десяти лет, встречаясь со сгущением пара в воду и совершенно ясно понимая причину происходящего при этом выделения тепла, ему трудно было не найти сходства с этим явлением во взрыве гремучей смеси при опытах Пристлея: при сгущении пара остается пустота, выделяется тепло и получается вода. При взрыве газов у Пристлея также оставалась пустота, также выделялась тепло, и в результате должна была появляться тоже вода.
Такое заключение должно было само собою напрашиваться Уатту, если бы даже у него и не было никаких намеков на общность водорода и кислорода с водою, каких на самом деле у него было немало. И он сделал это заключение.
Как трудно было бы представить себе личность Уатта в первый период его жизни, в период изобретения паровой машины без связи его с университетом Глазго и его тамошними друзьями, так же трудно понять течение его мыслей во время жизни в Бирмингеме, ничего не зная о “Лунном обществе” и его членах. По какому-то странному стечению обстоятельств Бирмингем семидесятых годов прошлого века, то есть в эпоху всеобщего оживления и пробуждения мысли, сделался центром избранных умов и талантов средней Англии. Философы, ученые и меценаты, инженеры, механики и изобретатели собрались здесь в одну тесную группу и назвались “Лунным обществом”, во-первых, потому, что они собирались раз в месяц у одного из своих членов, поочередно, около полнолуния, а во-вторых, потому, что собрания эти, начинаясь около двух часов дня обедом, кончались после обсуждения всевозможных вопросов уже поздно вечером, и расходиться членам приходилось по домам при лунном свете. Это не было в строгом смысле ученое общество; едва ли не вернее будет назвать его обществом свободных мыслителей, существовавших тогда не в одной Англии. Его дружеские собрания всегда посвящались самым оживленным и горячим прениям о научных и философских вопросах дня. Без всякого формализма, без чинопочитания и церемоний сюда сходились люди самых различных профессий и положений обменяться живым словом об интересовавших их новостях науки, философии и повседневной жизни, которые всюду волновали умы в конце XVIII века. Многие из членов были связаны тесной дружбой, других привлекал сюда свет ума и знаний той основной интимной группы, которую составляли, кроме Уатта, Смола и Болтона, химик Пристлей, другой химик и большой остряк Кэр, поэт Дарвин, ботаник Витеринг, механик Эджворт, филантроп и эксцентрик Дей и другие.
Пристлей был в высшей степени замечательным человеком сам по себе, помимо всякого отношения к Уатту или “Лунному обществу”, в котором он играл, несомненно, выдающуюся роль. При огромных способностях и самых разнообразных познаниях в естественных науках, механике, метафизике и так далее, он обладал невероятной энергией и настойчивостью во всех своих ученых работах; увлекался буквально всем, за что ни брался, а брался он также почти за все и страдал из-за отсутствия всякой системы, своей разбросанности. Но энергия и энтузиазм дополняли эту слабость. Будучи пресвитерианским проповедником и имея большую семью, он никогда не заботился о завтрашнем дне и конечно бедствовал. Когда друзья хотели было раз подать ему практический совет, как распорядиться с пользой для себя его научными открытиями, он резко ответил им, что никогда не извлекал, да и не намерен извлекать из науки материальных выгод для себя. И действительно, как только этот энтузиаст находил что-нибудь новое, даже прежде, чем был сам уверен в успехе, он разглашал о сделанном им открытии всем своим знакомым и приятелям, причем случалось, что некоторые из них пользовались его указаниями и намеками, разрабатывали их и потом выдавали за свои собственные открытия, а Пристлей оставался ни с чем. К счастью, в среде “Лунного общества” обязанности дружбы и человечности понимались не так, как в ученых обществах. Сначала в пользу Пристлея составлялись единовременные подписки, а потом все состоятельные члены, по инициативе Болтона и Веджвуда, согласились вносить ежегодно определенную сумму, с тем чтобы Пристлей мог продолжать свои ученые работы, не заботясь о куске хлеба. Это оказалось тем более исполнимо, что потребности у него с семьей были очень умеренными. Нечего и говорить, что все это делалось без ведома самого Пристлея. Читая дружескую переписку по этому поводу между Болтоном, Веджвудом и другими, не знаешь, чему больше удивляться в этих людях XVIII века: верности ли понимания своих общественных обязанностей или искренней симпатии, деликатности и скромности, с которыми они помогали друг другу.
В таком кругу всякий теоретический вопрос должен был освещаться особым интересом, и не мудрено, что паровая машина и разные химические вопросы могли служить поэту Дарвину темами для его песнопений, а остряку Кэру неистощимым источником его шуток, оживлявших даже самые сухие и отвлеченные дебаты.
Но по некоторым указаниям можно заключить, что не все собрания посвящались вопросам отвлеченной науки. В 1791 году, когда события во Франции достигли своего высшего напряжения, беседы приняли совсем другой характер. Было бы напраслиной сказать, что среди самих членов “Лунного общества” было много революционеров или даже сочувствовавших французской революции, но интерес в них к событиям во Франции, несомненно, был очень велик. Не говоря о том, что у многих там были личные друзья и знакомые, как Лавуазье, Лаплас, Бертоле и так далее, у других, как у Болтона, Уатта и Пристлея, там воспитывались дети, – всех их крайне интересовал исход этого общественного кризиса, судьба тех принципов, к которым в глубине души они не могли не чувствовать некоторой симпатии.
Неудивительно поэтому, что, несмотря на вполне “благонамеренные” политические взгляды и известную религиозность многих из них, на все “Лунное общество” в Бирмингеме смотрели как на сборище вольтерьянцев и свободных мыслителей. К тому же между ними были действительно и черные овцы: Пристлей, не стесняясь, высказывал свое сочувствие к французским делам. Вольнодумец в делах церкви и республиканец в политике, он и прежде не пользовался репутацией “благонадежного” и правоверного, особенно между духовенством. А теперь, когда в 1791 году из Парижа приехал его сын и с энтузиазмом возвестил всему обществу о торжестве новых идей, его восторг сообщился и пылкому отцу. Теперь он уже с кафедры начал громить поповство и королевскую власть и открыто вступал в диспуты с духовенством, а бордосское “Общество друзей человека” выбрало его, почти единственного из англичан, своим почетным членом. В те же дни было получено известие, конечно, не без прикрас, что сын Уатта, Джеймс, душой и телом предался революционным делам, сделался членом Якобинского клуба и даже мирил в качестве секунданта Робеспьера с Дантоном, а потом, поссорившись с главою Конвента, должен был бежать в Италию.
Всего этого было довольно, чтобы возмутить бирмингемских хранителей старины. И вот, когда компания тамошних радикалов затеяла публичный обед в одном из отелей, толпа людей бросилась на этот дом, выбила окна, переломала мебель и с криком: “Долой философов, да здравствует церковь и король!” – кинулась разорять и поджигать дома Пристлея и других диссидентов. Самого его успели предупредить, и он вовремя оставил дом вместе со своим семейством. Болтон и Уатт в это время вооружили своих рабочих на заводе и приготовились дать решительный отпор, если бы толпа сделала на них нападение. Однако этого не случилось: большая часть диссидентов жила в другой части города, и театр военных действий перенесся туда. Через несколько дней Пристлей смог вернуться в город, но жить в Бирмингеме ему было уже невозможно, и он переселился в Америку, где и умер в городе Нортумберленде в Пенсильвании в 1803 году.
Насколько велика была утрата “Лунного общества” с отъездом Пристлея, настолько же и сам он сожалел о потере его: “Все, что мне удалось сделать для науки, – писал он к друзьям, – когда я жил в Бирмингеме, столько же принадлежит вам, как и мне самому”. Примерно в это же время оставили Бирмингем и некоторые другие члены “Лунного общества”, и хотя оно продолжало еще существовать до начала XIX столетия, но никогда не было уже таким оживленным и деятельным, как в описанное время.
К числу заслуг Уатта перед наукой следует также отнести его предложение принять общую для всех стран десятичную систему мер и весов, с которым он обратился к выдающимся английским и французским ученым в 1783 году. Многими это предложение было встречено очень сочувственно. Французская десятичная система, как известно, была выработана особою комиссией в 1789 году. Система Уатта несколько отличалась от принятой потом во Франции, но, вне всякого сомнения, верно выражала потребность того времени.